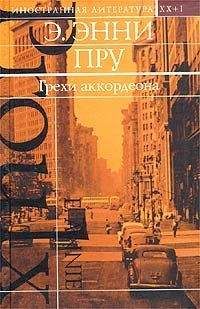– Боже, – воскликнула Джозефина, – как же отсюда выбраться? – Вёрджил молчал.
Какой-то человек с ногами, как ходули, бросил взгляд в их сторону, потом состроил гримасу, словно отдавал команду; один из пацанов подобрал с земли пинтовую бутылку и, прислонившись к исписанной стене, лениво метнул ее в их сторону. Бутылка разбилась прямо перед машиной, осколки стекла простучали по капоту.
– Ебаный ишак, – ругнулся Вёрджил.
– Слава богу, промазал, – сказала Джозефина, хватаясь за сиденье; этой машине не повредили бы тонированные стекла.
– Недоебыш промазал специально. Попугать решили – эти уебки дуются в баскетбол по шестнадцать часов в день, влепить с сотни футов по летучей груше рисовым зерном им как нехуй делать.
– Это утешает. – Она смотрела в боковое зеркало на то, как они притворно швыряют им вслед всякий хлам – возможно, опять стеклянные бутылки, этого она уже не видела – блестящие снаряды неслись к заднему стеклу со скоростью пятьдесят или шестьдесят миль в час.
– Вот оно. – Ехавшая впереди машина свернула на пандус, они двинулись следом, через несколько секунд оказались на трассе и, вместе с уплотнявшимся потоком, двинули на запад – начинался час пик. Поток все замедлялся, потом встал; высунувшись в окно, Вёрджил увидал далеко впереди мигание красно-синих лампочек.
– Авария. – Они ползли, поглядывая сверху на пустыри за кирпичными и деревянными заборами, прислушивались к громовому пульсу и рокоту завода; мимо проплыла реклама пива «Бад», а прямо под ней – закопченная фотография Папы Иоана Павла II; заброшенные трущобы, кирпичные дома с выбитыми стеклами, выпирающей арматурой, дренажными трубами, пожарными лестницами, проводами; на первых этажах уродливые лавчонки: «Парихмахерская», «Все для рестарана»; прислонясь к ограде, стояла проститутка, над ее лбом цвета яичной скорлупы вздымался черный блестящий парик, у подъездов каркасы с остатками бледных вывесок: «Мясо Банжо», «Маленькие барашки», у дверей открытые кузова грузовиков. Показались пилоны, и Вёрджил сказал:
– Нет, это дорогу ремонтируют, – впереди замаячила оранжевая табличка «Объезд», и полицейский, взмахнув из-за своей загородки рукой, отправил их обратно, в лабиринт улиц и ежовые рукавицы светофоров.
– Господи, мы когда-нибудь отсюда выберемся?
Они стояли на перекрестке, запертые со всех сторон рокочущим потоком, красноватое мигание тормозных огней придавало всей сцене тепловатую интимность, грузовики и легковушки прижимались друг к другу плотно, как створки устричных раковин. Светофор переключался снова и снова, несколько машин пытались выбраться из пробки, но железный узел затягивался все туже, и тут что-то плюхнулось на крышу машины – раздался тяжелый удар, потом скрежет. На секунду в ветровом стекле показалась мохнатая морда с красными глазами и тут же исчезла.
– Ах! – только и могла сказать Джозефина, а Вёрджил поинтересовался, что это еще за хуйня. Хуйня, кем бы она ни была, резво промчалась у них над головами и пропала. В соседнем ряду кто-то жал на клаксон: бип-бип-бип-бип.
– Вот она. – Джозефина показала на непонятную живность, которая, проскакав по передним машинам, запрыгнула на крышу белого грузового фургона с надписью «Быстрый» на задней двери. Пробка начала рассасываться, поток разъезжался – от греха подальше, запирались магазинчики, зажигались фонари и витрины, Вёрджил рывком перестроился в соседний ряд, но следующий въезд на трассу тоже оказался закрыт, и поток отправили в новый объезд.
– Кто, черт побери, это был, ебучая обезьяна? – От белого фургона их отделяло восемь или десять машин. Перед самым концом объезда серой дырой открывалась какая-то улица, и машину подбросило так, будто они наехали на что-то колесом.
– Это пандус. – Джозефина вгляделась в зеркало заднего вида. Но рассмотреть ничего не удалось. Это могло быть все, что угодно.
И вновь Вёрджил нырнул в западное течение грузовиков и легковушек, а Джозефина резко откинулась на сиденье – теперь она была спокойна, ей даже нравилось смотреть в небо, само как тонированное стекло, чистое на горизонте и плотно синее на полпути к зениту. Одинокие облака, словно ленты рваного тюля, потом еще и еще, подтертые белые мазки, грязноватые и чуть розовые. Какая-то белая точка быстро проплыла над трассой с юга на север, почти у них над головами – детский воздушный шарик из милара, она хорошо его видела и не сводила глаз, пока шарик не исчез. Дорога серела, яркие фары встречных машин били в глаза, но небо было ясным, теперь янтарно-розовым, его заполняли неизвестно откуда набежавшие облака, усыпанные мерцающими кляксами.
– Давай поищем, где остановиться, – предложила Джозефина. Она с удовольствием думала о том, как залезет в ванну, выпьет чего-нибудь, с часик почитает «Имя розы» Умберто Эко, весь день этот толстый том ерзал туда-сюда по нейлоновому коврику у ее ног. Она добралась всего-то до пятьдесят третьей страницы. Вёрджил ничего не ответил, но она знала, что он сейчас тоже мечтает о том, как будет лежать голышом на кровати, в стакане позвякивает лед, пахнущий смалкой дымок затеняет свет телевизора, там показывают новости, он слишком устал, лень идти ужинать, может она закажет прямо в номер, давай, а потом полезай в постель, смотри, как торчит, сделай что-нибудь хорошее, какого черта? Что еще за дела, она что, теперь фригидная? Нет, ответит она и сделает все, как он захочет. Она включила радио, по Национальному государственному каналу рассказывали занудную историю о человеке, придумавшем строить из переработанного пластика бунгало для районов с тропическим климатом. Они проехали мимо перевернутого грузовика с химическими удобрениями, колеса еще крутились, а по дороге растекалось что-то белое.
– Как пить дать, обезьяна, – сказал Вёрджил. – Съебалась откуда-то. Я тебе рассказывал, как в Наме хавал ебучие обезьяньи мозги?
Выезжая на следующий день из Колдаста, он спросил: как ты думаешь, сколько ебучих фруктовых палаток поставили на священных камнях? Она не знала. Ладно, а сколько ебаных дорог проходит через ебаные колдовские ущелья? Опять не знала. Охуеть, ты, наверное, думаешь, эта страна настоящая, сказал он.
– Настоящая что?
К этому времени над каждым черным строением уже клубилось розоватое по краям облако, а некоторые даже исторгали из себя пар цвета наступающего дня. Выхлоп электростанции, жирный и прекрасный, как фиолетовая туча, муаровые отстойники лазури и кобальта, пурпур, гигантские равелины бульдозерных отвалов, которые пассажирам реактивных самолетов, что любят выглядывать в окна размером с их головы, наверняка казались наползающими друг на друга фруктовыми дольками топографического tarte aux pommes [303]. Черные угольные конусы железнодорожных приемников поднимались, словно египетские пирамиды, в ореоле легкой пыли, хибарки с зелеными крышами и газовыми баллонами, окна с красными рамами. По бокам простиралась грязно-коричневая земля, когда-то давно – ровная прерия, когда-то давно – шелестящая на ветру трава.
Вёрджил прочно держался центральной трассы, мимо проплывали трейлерные городки: две ступеньки перед каждой дверью, антенны на крышах, драные занавески в открытых окнах – у самого шоссе с его копотью и ревом – а за этими трейлерами сотни, тысячи других, желтая вывеска над трейлерным кафе «Прыгунок». Над ними священные узлы облаков влажноватого цвета пропускали сквозь себя неоновый отсвет. Обжигающе горячий воздух из выхлопных труб грузовиков, запах дизельного масла и жженой резины; они двигались к ночи и дождю.
Кивнув на темнеющий утес, Вёрджил сказал: что это, наверное, трафаретная копия чьей-то руки, знаки жизни, напоминание. Подписи и головоломки на самых черных скалах, следы птичьих фекалий изгибались плавными линиями там, где ничто другое не могло изогнуться. Где-то далеко – белый обожженный камень, к которому с незапамятных времен запрещено прикасаться, и который все же превратили в линию фронта, в потрескавшийся пейзаж с поверхностью пережаренной яичницы, утыканной глубокими ямами бомбовых кратеров, брызгами покореженных грузовиков, поломанных сенокосилок и жаток, бульдозерными хлопьями на рябой земле. Все это изувечено умышленно, сказал он, чтобы доказать, что все это можно изувечить.
На следующий день они пересекли реку. Охуеть, как глубоко, сказал Вёрджил. В четверти мили под ними сальная вода цвета хаки вгрызалась в бурый камень, тянула за собой скалы и откосы, вылизывала пещеры, длинные горизонты известняка и окаменелостей, толстые панцири белых тростников, похожих на птичьи кости, простыни камня. И сам унылый мост, линейка дороги на вершинах красных, упирающихся в бетон арок, по бокам монотонная изгородь, больше символ, чем надежная защита.
Этот день подошел к концу на площадке для отдыха у серо-аммиачного бассейна, мелкого пенящегося овала щелочной воды, забитого пивными банками, детскими стульчиками, мятой пластмассой, камнями. Вокруг холмы, тридцатисемиградусные склоны, темно-синие на блеклом небе, неустойчивый горизонт. Свет зажжен, все двери нараспашку, радио вопит; она вышла из машины, присела в грязи и расставила ноги, но видимо недостаточно, потому что брызги все равно попадали на лодыжки, она стала смотреть на белый радиатор машины. В надвигавшихся сумерках, машина вызывала такое же тоскливое чувство, как зажженное окно в какой-нибудь северной деревушке.