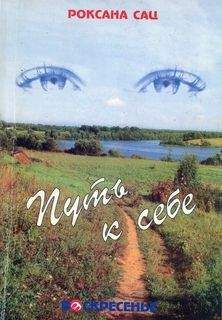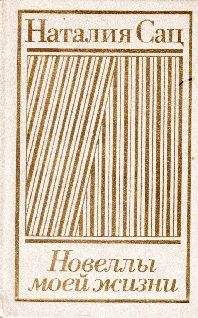Произнеся речь о росте объема продаж компании «Пицца-Палас» и открытии новых торговых точек на северо-западе страны, Найджел Солсбери передал слово председателю жюри, бывшему министру транспорта, который, предположительно, любил читать книги.
Грамотный Политик объяснил своим слушателям, какая это для него честь, и перешел к описанию невероятной сложности стоявшей перед жюри задачи.
Трантер вонзил ногти в кожу ладоней. Милостивый Боже, думал он, прошу Тебя, пусть это поскорее закончится; впрочем, спустя недолгое время он с удивлением обнаружил, что к его затяжной агонии примешивается своего рода приятное возбуждение. Ему вдруг представилось, что все прожитые им годы вели именно к этому мгновению, и теперь Трантер был не прочь его растянуть. Он знал, что победа будет за ним. А истоком всего было усердие, с которым он учился еще в начальной школе; официально детей там по рангам не разделяли, однако для всех было очевидным, что Трантер — первый ученик класса. Потом школа средняя, Оксфорд, первые годы самостоятельной жизни… Он твердо держался того, во что верил. Его разносные рецензии, печатавшиеся в газетах, в журналах, в «Жабе», служили высокой критической цели: очищать мир от «возвышенных подделок», раскрывать читателям глаза, нападать на «литературный истеблишмент» с его ленивым притворством. Он стремился не к беспристрастности, но к самовыражению. И ему потребовалась подлинная отвага, чтобы писать именно так, пусть даже анонимно, — объяснять, почему очередной баловень прессы — это пустой надувала, гроб повапленный; почему тот или иной обвешанный наградами старый дурак есть всего-навсего давний член шайки, сплоченной обоюдным… обоюдной… Да какая разница чем! Трантер отпил глоток подаваемой в «Метрополитен» домашней риохи.
Злопыхатели уверяли, будто он ничего, кроме издевок, предложить не может. Что ж, он доказал: это не так. Нашел настоящего писателя, изучил его жизнь и поведал о ней людям, дав исчерпывающий комментарий к его романам, детально объяснив, почему «Шропширские башни», к примеру, на много голов выше всего, что публиковалось в последние двадцать лет.
В голосе Грамотного Политика начали проступать нотки все более низкие — это означало, что он вот-вот завершит свою речь и назовет победителя. Вот он достал из кармана конверт. Трантер взглянул на свою тарелку со съеденным лишь наполовину десертом. В ушах его звенело, в них билась кровь. Каждая клеточка тела напряглась в страстном ожидании звуков, из которых сложится имя: Альфред Хантли Эджертон. Оба внутренних уха горели от вожделения. «Премия присуждается…» А следом, словно бы вдруг, полились долгожданные звуки, осеняя ласковым благословением его жадные надежды. Он отодвинул кресло, встал — неловко, но скромно — и успел сделать два шага, прежде чем почувствовал, что рука Пенни Макгуайер с силой тянет его назад за полу пиджака, и услышал ее шипение: «Сядь, идиот». Приоткрывший рот Трантер опустился в банкетное кресло как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как Грамотный Политик протягивает руку разрумянившейся даме вполне определенных лет и, мысленно воспроизведя в этот миг страшной ясности объявление о вердикте жюри, услышать, как те же самые звуки складываются не в имя предмета его исследования, но в «Альфи — халатный инженер», и вывести из громовой стоячей овации, что лауреатом премии «Книга года» стала Салли Хиггс, что каждый из четырехсот собравшихся в люксе сэра Фрэнсиса Дрейка людей страшно рад успеху старушки Салли, любимой всеми труженицы на ниве ее скромного жанра — детской книжки с картинками.
Было уже 10.30, когда Габриэль и Дженни вошли в вагон поезда, идущего к станции «Виктория»; по дороге из больницы они поужинали в подвернувшемся им ресторанчике «Пицца-Палас». Выбор у них был невелик — либо это заведение, либо «Непальский Эверест», в котором они побывали прошлым вечером. Дженни настояла на том, что платить будет сама, — впрочем, поскольку она завтра работала в утреннюю смену и потому пила только воду, а Габриэль тактично ограничился всего одним бокалом вина, ужин обошелся Дженни недорого.
Увиденное в «Глендейле» сильно подействовало на нее, однако она не решалась приставать к Габриэлю с вопросами, боясь его расстроить. Он выглядел человеком, примирившимся с судьбой, думала Дженни. Если бы такая трагедия произошла с ее братом, она, наверное, пришла бы в ужас, сходила бы с ума, не находила бы себе места от гнева. И потому недоумевала, как удается Габриэлю сохранять такое спокойствие, отстраненность.
— Она не нагоняет на вас тоску? — спросила Дженни, когда им принесли пиццу.
— Больница? Да, конечно. Но ведь в жизни много такого, что невозможно понять. Такого, что наше сочувствие, даже самое страстное, изменить не способно. А мне страшно горько еще и потому, что я чувствую: Адам — тот, которого я знал, — по-прежнему кроется где-то внутри его тела. Иногда он на миг словно бы показывается наружу, но докричаться до него мне не удается. И он снова уходит.
— Я таких, как он, до сих по ни разу не видела. Каким он был, когда… До того, как это случилось?
— Самым обычным мальчишкой. Немного вспыльчивым. Временами слишком упрямым. Однако он хорошо учился, был неплохим спортсменом. Нам было весело вместе.
— Вас только двое в семье?
— Да. Мы выросли в гэмпширской деревне. Отец был фермером. Вернее, арендатором. Потом у него возникла безумная идея купить ферму и разводить скаковых лошадей. Ничего из этого не вышло. Но мы особо не тужили. А в соседнем городе имелась хорошая школа, и мой учитель твердил мне, что я должен поступить в университет.
— Вы уже тогда были большим умником?
— Нет, Дженни, умником я не был. Просто блестяще одаренным юношей.
— Ну да, рассказывайте!
— А вы?
— А меня вырастила мама, мы с ней жили в Лейтоне, в высоченном многоквартирном доме.
— Жуть. Как вы любите выражаться.
— Да. Но я же ничего другого не видела и потому не огорчалась. Мама у меня хорошая. Да и все было хорошо, если только лифт не ломался.
— А жили вы на что?
— Мама работала на почте, сортировщицей. А я была предоставлена самой себе.
— Потому и выросли такой независимой.
— Наверное. Никогда об этом не думала. Но вот Адам… он меня поразил. Я знала, конечно, что люди иногда сходят с ума. Однако не… ну вы понимаете, не самые же обычные люди.
Габриэль допил остатки грубоватого итальянского вина.
— Тем-то психоз и страшен. Он выбирает самых обычных людей. По одному из ста. С другими животными, насколько мы знаем, такого не случается. Конь, когда он стоит один посреди поля, не слышит ржания трех других, которых рядом с ним нет. Не верит, что другие лошади следят за ним. А с человеком происходит и кое-что похуже. И это не вопрос веры. Адам не «верит», что Аксия и прочие транслируют его мысли по Седьмому каналу, да еще и в прайм-тайм. Он это знает.
— Один из ста, — повторила Дженни. — Невероятно.
— Невероятно, но правда. Другое дело, что никто о ней и слышать не хочет. Она постыдна, с ней трудно смириться. Представьте себе, что один из ста орлов непременно рождается слепым. Или один из ста кенгуру — не способным прыгать. Жуткое дело.
— Нет, ну почему же никто не хочет? — сказала Дженни. — Я хочу. Мне жалко Адама. И… ну вы понимаете, таких, как он.
Габриэль вгляделся в лицо Дженни. Глаза ее поблескивали, в них стояли слезы волнения или негодования — он недостаточно знал ее, чтобы точно сказать, чего именно. Но что-то такое было в этой женщине… Ей удавалось затрагивать некую струнку, спрятанную в самой глубине его души.
— Я думаю, человечеству просто стыдно признать, что его, в сущности говоря, наебли, — сказал он. — Простите, Дженни. Простите, как-то само с языка сорвалось.
— Я ведь поезда вожу, Габриэль. Работаю среди мужчин. Если вас что-то выводит из себя, ругайтесь на здоровье. Наебли в чем?
— Наебли генетически.
— Я слушаю.
— Вы знаете, что такое естественный отбор?
— Наверное, когда его проходили в нашей школе, я прогуливала.
— Он выглядит примерно так. Животные виды изменяются потому, что при дублировании клетки, которого требует размножение, происходят мелкие ошибки, а они порождают незначительные отличия в потомстве. Обычно эти изменения умирают вместе с их индивидуальными носителями. Но в одном случае из миллиона такое крошечное изменение наделяет его носителя каким-нибудь преимуществом перед сородичами, он становится предпочтительным при размножении партнером. Изменение передается его потомству, закрепляется в нем. Вид эволюционирует. Для того чтобы иметь лучшие, чем у твоих конкурентов, виды на выживание, тебе требуется лишь крошечное преимущество. Однако предки человека пережили какое-то аномальное изменение. Не микроскопическое, но гигантское. Все, что нам требовалось, — это идти на полшага впереди приматов и плотоядных сухопутных млекопитающих с крепкими зубами. А мы вместо этого произвели на свет Шекспира, Моцарта, Ньютона, Эйнштейна. Нам требовалось всего-навсего чуть больше проворства, чем у гиббона, а мы докатились до Софокла. И оборотной стороной этого колоссального и совершенно ненужного нам преимущества стало то, что геном человека оказался, если воспользоваться нашим любимым техническим термином, ебанутым. Он неустойчив, ущербен — и все потому, что сам себя обогнал. И за то, что все мы так оторвались в развитии от прочих видов, каждый сотый из нас расплачивается по очень высокой цене. Обращается в козла отпущения. В несчастного ублюдка.