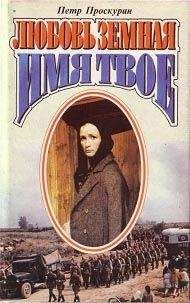Озабоченный генерал, хозяин строящегося полигона, облетавший в этот яркий весенний день свои обширные владения на вертолете, по своей занятости, конечно, не видел и не мог видеть ни старого карагача, ни солдат возле него, на какое-то время оторвавшихся от работы, но именно он, как никто на всем обширном пространстве, видел целое и осознавал его значения и конечный смысл. Ему был подчинен этот объект, и требование абсолютной секретности еще больше усложняло его задачу, и, несмотря на умение и опыт, генерал всегда, каждую минуту своего пребывания здесь, был готов к любой неожиданности. Сейчас, сверху, он видел разворот свершавшегося, и хотя все шло строжайше по утвержденному графику, его не покидало чувство опасности, незавершенности; постоянно тревожила мысль, что к концу срока полезут обязательные просчеты и недоделки; но, с другой стороны, он по своему же опыту знал, что в таком всеобъемлющем замысле не может быть все гладко и что это понимает не только он, но понимают и наверху, это несколько успокаивало. Каким-то шестым чувством он надеялся, что к сроку все окажется в порядке, если необходимое движение будет осуществляться ежедневно и ежечасно с точностью маятника, что в комплексе все самые разнородные, намеченные к осуществлению программы будут безукоризненно пригнаны друг к другу и сольются в одно целое, что для этого работает множество людей, самых блестящих умов, что страна, в послевоенной разрухе и бедности отказываясь от самого необходимого, все-таки смогла свершить этот невероятный шаг и теперь через два-три месяца предстояло поставить логическую точку. Знал он также, что последние месяцы проскочат, как один миг, что не успеешь оглянуться — и начнут съезжаться эксперты, ученые и военные, наблюдатели и комиссии, и все это разношерстное и единое по своей сути хозяйство придется размещать и устраивать, и что…
Этих «что» было много; даже он, начальник строящегося объекта первостепенной государственной важности, к которому стекались самые дотошные сведения, вплоть до появления в запретной зоне отставшего от людей одичавшего верблюда и до ссоры двух молодых офицеров в одном из подразделений, не мог всего вспомнить и перечислить. Он верно угадал одно: время прошло мгновенно, травы побурели под безжалостным солнцем, и вот уже лето перевалило за первую половину, покатился к концу и август; на объекте стало необычайно людно и напряженно; не заставили себя ждать и всевозможные комиссии, в том числе и правительственные, с одной из них прилетел и Брюханов с группой специалистов своего главка. Съезжались ученые и военные, спешно дооборудовались наблюдательные пункты, разворачивались приготовления к различным экспериментам, все что-то просили и требовали, ни у кого не хватало ни пространства, ни отведенного по графику времени.
За несколько суток до условного часа «Ч» на объект прибыл со своими людьми и многочисленными, специально сконструированными для данного испытания приборами и Лапин Ростислав Сергеевич, спешно прервавший свой летний отдых и отменивший намечавшуюся поездку на торжество к Чубареву, о чем он и сообщил в Холмск телеграммой; Лапин появился на объекте взъерошенный, сердитый, его слишком поздно известили о предстоящем, устройства, аппаратуру для экспериментов пришлось разрабатывать буквально за считанные недели; и сам Лапин, и принимавшие участие в выполнении программы ближайшие его помощники буквально валились с ног, но все были готовы не спать еще и неделю, и месяц, и год; эксперимент предстоял уникальный, необычный и стоил того. Лапин лишь возмущался, что из-за своей спешки и сверхзасекреченности, «страусовой дипломатии», как он ее называл, наука теряла гораздо больше, чем могла бы потерять, если бы дали возможность подготовиться к экспериментам не спеша, обстоятельно и если бы ученые знали заранее, в каком конкретно направлении им нужно было работать. Вскоре, правда, все постороннее отступило, рассеялось, время понеслось вскачь. Для выполнения определенной, специальной части измерений Лапину и его коллегам отвели наблюдательный блиндаж, главная, основная часть исследований, касавшаяся непосредственно радиофизики, была столь обширна, что все оставшееся время ушло па подготовку и размещение аппаратуры. Лапин не успел даже накоротке повидаться с Брюхановым.
Когда кто-нибудь из его группы начинал особенно ворчать на тесноту и неудобства, Лапин примиряюще успокаивал:
— Ну, голубчик, зачем лишние эмоции? Вы же видите, вся наука представлена здесь, нас, жаждущих приобщиться к таинству, много, а жизненного пространства каждой отрасли отведено минимум. Надо тесниться, ничего не поделаешь…
Лапин умел работать сам, умел организовать процесс, но здесь явно не хватало ни времени, ни сил, и примерно за сутки до часа «Ч» он понял, что необходимо хотя бы недолго поспать. Предупредив на всякий случай, где его искать, он приказал всем отдыхать и вышел из блиндажа, буквально под завязку набитого множеством регистрирующих приемных устройств, и прошел под навес, к топчану за жиденькой перегородкой из авиационной фанеры. Сбросив туфли, он блаженно потянулся, не раздеваясь, лег и тотчас в узкую щель в стене (раньше он ее не замечал почему-то) увидел на ярком, синем, солнечном горизонте какой-то высокий силуэт. Присмотревшись внимательнее, он понял, что это дерево, старый карагач. Лапин сразу вспомнил, что уже несколько раз видел его издали, но не обращал внимания. Его сейчас привлекало это дерево, может быть, своим подчеркнуто резким одиночеством в солнечном утреннем небе; Лапин по еле приметному издали движению вершины понял, что дует сильный западный ветер. «Плохо, плохо, что ветер», — подумал Лапин и закрыл глаза; мелькнула мысль о доме, о дочери, и он тотчас провалился в сон, даже в этом бесконечном падении все еще продолжая убеждать себя, что ему нужно проснуться ровно через два часа. Ему показалось, что он открыл глаза, как только оборвалось это неприятное, ноющее чувство падения; сердце билось часто и неровно, и он полежал еще, не шевелясь, стараясь успокоить дыхание. В щель резко врывался сухой ветер, солнечные пятна неровно дрожали па переборке. И чей-то знакомый голос несколько раз раздраженно крикнул:
— Валька! Валька! Сабиев, черт, куда делся Валька? Не могу найти селеновых выпрямителей. Куда делся Валька, черт бы его побрал, этого невидимку!
Легко сбросив ноги с топчана, Лапин сел. Ах, да, да, вспомнил он даже с какой-то нетерпеливой радостью. Час «Ч», жизнь здесь определялась всеобъемлющим часом «Ч», этим всеми нетерпеливо ожидаемым всплеском первородных сил космоса. Удивительно это неудержимое желание человека заглянуть в самую первооснову всего сущего, вдохнуть в себя эту ярость творения, измерить ее и обосновать, заковать в формулы и с этих ступеней вновь устремиться дальше, к новым тайнам и свершениям…
Лапин Ростислав Сергеевич знал немало, немало мог, любимым его изречением были слова Менделеева о том, что наука бесконечна и что каждый день приносит в нее все новые и новые задачи, и поэтому, вероятно, он опять почувствовал сердце. Он нахмурился, натянул туфли, нахлобучил от солнца легкую, в частых дырочках шляпу. Нужно было еще раз самому выверить всю схему разработанной программы, окончательно уточнить все с другими расположенными за сотни и даже тысячи километров особыми группами наблюдения за дальними характеристиками предстоящего взрыва. Он взглянул на часы, было без пяти десять; до намеченного срока оставалось менее суток, и нужно было торопиться. Лапин налил из термоса горячего кофе с молоком, с нескрываемым наслаждением выпил редкими, небольшими глотками, уже четко определяя и разграничивая задачи для каждого из своей группы; он тотчас включился в работу, и день промелькнул мгновенно. Вечером все находящиеся на полигоне были дополнительно проинструктированы о соблюдении правил безопасности, были окончательно закреплены за каждым его место и обязанности, уточнено, выверено до последних мелочей расписание.
Весь день дул резкий, упорный северо-западный ветер, к вечеру он еще усилился, и стала копиться гроза; резко прыгали по всему видимому пространству темные шары перекати-поля. Тучи натягивало неуклонно, стали проскакивать молнии, все теснее стягиваясь, словно к центру, к тридцатиметровой стальной башне, на самом верху которой уже была установлена, подключена к линии подрыва и стала жить первая советская плутониевая бомба, и каждый, кто об этом знал, с замиранием сердца следил за пляшущими вокруг металлической вышки, слегка раскачивающейся под ударами грозы и ветра, молниями.
Лапин вышел из блиндажа, где происходила последняя настройка и наладка различных приемных устройств, уже перед самым вечером; несмотря на закрытое грозовыми тучами небо, чувствовалось, что солнце вот-вот зайдет. Темной, косматой, тревожной тенью, чуть не утопая вершиной в несущихся тучах, выгибался старый карагач. Было душно. Лапин раздвинул ворот рубашки, подставляя плотную грудь ветру, отыскал взглядом вышку, обозначенную цепочкой взбегающих в тучи редких электрических огней, обрывавшихся в темноту. Там, высоко над землей, ожидая своего мгновения, покоился непостижимый по силе концентрации первородный сгусток энергии, заключенный в хрупкую рукотворную оболочку.