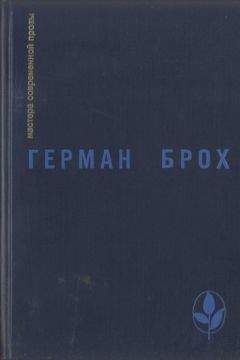Бегство, о бегство! О ночь, час поэзии! Ибо поэзия это зрячее ожидание в сумерках, поэзия — это бездна, дышащая сумраком, ожидание на пороге, общность и одиночество вместе, смешение и страх перед смешением, это невинность в смешении, такая же невинность, как сны спящих стад, и в то же время страх перед такой невинностью; о, поэзия — это ожидание, еще не выступление, но уже прощание, вековечное прощание. Коленом он слегка чувствовал прильнувшего к нему мальчика, он не видел его лица, только угадывал его, погруженное в собственную тень, смотрел на темные лохмы, в которых играли лучики свеч, и вспоминал ту счастливо-несчастную ночь, когда он, гонимый судьбой, пришел, любящий и затравленный, к Плотии Гиерии и читал ей стихи, ей, присевшей у его ног, застывшей в зимнем ожидании, по-зимнему замкнувшейся, то была эклога о волшебнице, по желанию и заказу Азиния Поллиона изготовленная эклога, которая никогда не удалась бы ему, если б он, сочиняя ее, не думал о Плотии, если б не освятили ее томительное желание и робость, эклога, которая так удалась ему лишь оттого, что он с самого начала знал, что ему никогда не будет дано переступить порог, без остатка раствориться в ночи единения; ах, потому и должен был он читать эклогу, что воля к бегству жила в нем с давних пор, с изначальных, что исполнились и опасения, и ожидания и слились в едином прощании. И эту самую муку прощания потом снова и еще сильнее должен был испытать Эней, когда он, понукаемый непостижимо загадочными велениями поэтической судьбы, устремился на своих кораблях в неотвратимое и оставил Дидону, навсегда отрекаясь от совместного ложа, от совместной охоты, навсегда расставаясь с нею, с той, что была для него сладкой тенью реальности, сладкой тенью желания, навсегда расставаясь с ночным узилищем любви, схороненным от грозных бурь. Да, Эней и он, он и Эней, оба они бежали взаправду, то не было, как в поэзии, лишь затянувшееся прощание, они бежали из ее, поэзии, промежуточного царства, будто и не годилось оно для жизни, хотя жила в нем и любовь, — куда же бежали они? Из каких глубин вставал этот страх перед материнскими зовами Юноны? Ах, любить — значит погружаться в черное зеркало ночи, погружаться на самое дно ночи, где сны становятся вневременностью, переступая через самих себя, а на том дне собирается все не обретшее форму, все незримое, все, что вечно стережет минуту, чтобы, подобно грозе, вырваться наружу, сея гибель и разрушенье: только дни переменчивы, только сквозь дни течет время, подвижное, преисполненное дневного света и зримое глазу время; неподвижно, напротив, огромное око ночи, в глубине которого покоится любовь, оно горяще, пусто и немо в звездном сиянье, око, что неизменно и неотступно, ночь за ночью, сквозь все времена обновляет в себе земную вневременность созидая миры и поглощая миры глубиною своей глуби; ничего не видя кругом, ничего, кроме слепящего своим блеском Ничто, оно вбирает в себя все очи, очи любящих, очи просыпающихся, очи умирающих, очи, гаснущие от любви, гаснущие от смерти, очи людей, гаснущие от созерцания вневременное.
Бегство, о бегство! Хаос образов дня и спокойствие образов ночи, и то и другое, обращенное к событийному покою вневременности! Не спеша оплывали свечи в канделябрах, вокруг которых с монотонным и злобным писком кружили комары, монотонно журчала вода в фонтанчике на стене, и это журчанье казалось частичкой ее общего, несказанно вневременного, неподвижного, океанского течения; на фризе в неподвижной игре, окаменев в такой безмятежности, в таком сверхпокое, застыли амурчики, у которых уже не было собственного лика, они растворились в протяженной вдаль, на весь мир протяженной, стыло-кипучей, потусторонней ночной тишине, в вековечной неизменности эонов, что — насыщенная тенью и порождающая тень — представала как из дыхания возведенное полое вместилище снов, с приливами их и отливами, как невнятное молчание хаоса, осененное беззвучными крылами громов под незамутненными звездами. Ибо что бы ни покоилось в ночи, испивая мирный покой, испивая себя, осененное тенью и отбрасывающее тень, льнущее душой к душе, съединяющее супруга с супругой, покоящее девушку в объятьях юноши, мальчика — в объятьях влюбленного, чтобы ни случалось ночью — все это частная, отраженная тень ее общей, более глубокой тени, отражение ее вспарывающих темноту молний, паденье в бездну ее грозового ненастья, с которой совлечен покров грез, и как бы ни взывали мы к матери, ища у нее защиты от ночного ненастья, она так далека, так недоступна воспоминаниям, что из детства к нам приходит порою лишь смутный трепет, а не защита, не утешение, в лучшем случае полузнакомый-получужой дух давно исчезнувшей родины, дух покоя, предшествующего буре: да, так оно и было, и пусть ночной бриз теперь осторожно и ласково навевает в окно прохладу, объяв своим колыханьем все земное, обдавая своим дыханием оливковые рощи и пшеничные поля, виноградники и рыбацкие молы, этим единым и съединяющим ночным дыханием земель и морей, несущим в своих нежных эфирных ладонях все их плоды, и пусть эта мягкая длань, упадая в дивной неге, треплет улицы и площади, остужает лица, развеивает дым, унимает страсти, пусть это ровное дыхание, заполнившее собою все поры ночи, даже выступит за ее пределы, превратится в трепет земных недр, непостижимых, не ведающих о внешнем, покоящихся лишь внутри, в самом сердце и глубже, чем сердце, в душе и глубже, чем душа, в самой глубине нашего Я, тоже ставшего ночью, пусть все так и есть и так и будет — ничто уже не поможет; ничто не поможет, слишком все поздно, и ничто не поможет; чреватые бедами сны уже снятся стадам, неукротимо земное ярение, негасим огонь, а любовь отдана произволу карающих молний Ничто, и над узилищем ночи вне времени встала гроза.
Бегство, о бегство! До матери не дозовешься. Мы осиротели уже в самом нашем толпном истоке и напрасно выкликаем в снах имена, бесплодны зовы во тьме абсолютного слияния, — а ты, маленький мой ночной спутник, примкнувший ко мне как вожатый, неужели тебя я смог бы еще дозваться? Своею ли, моей ли судьбой ты мне послан, чтобы я мог говорить с тобой? Пугает ли и тебя вневременность? Затаилась ли она и в твоей ночи — и ты поэтому пришел ко мне? О, обопрись на меня, маленький мой близнец, о, обопрись, и я отвращу глаза мои от несчастья и обращу их на тебя, в надежде, в последней надежде, что смогу еще вернуться из одиночества на родину, вернуться с тобою под тот темный свод, что воздвигнут в моей душе как алтарь отчизны, мне больше неведомый, о, прильни со мной к этой родине, которая забытым зовом откликается в моей душе, струится по моим жилам, к которой я хотел бы приобщить и тебя: может статься, и самое чужое станет мне родным, может статься, даже сам я перестану себе казаться чужим; о, прильни ко мне, маленький мой близнец, прильни ко мне, и если ты исполнен печали об утраченном детстве, об утраченной матери, ты обретешь их снова во мне, в моей руке, в моей защите. Замрем еще раз в парящем вместилище ночи, еще один только раз прислушаемся вместе к ее трепетным снам, к обетованию — все же обетованию — ее переходного царства и ее сладкой яви, — ты не знаешь еще, ибо юн, мой маленький брат, из каких глубин нашего Я встает ночная надежда, столь всеобъятная и столь всеодушевленная в своей неизменности, столь нежная, тихая, томительная в своей беззащитности, что нам требуется очень много времени, чтобы ее услышать, ее и ее робкий трепет, окликающий нас отовсюду, как эхо, обступившее нас грядами отзвуков, — эхо, гряда за грядой, стена за стеной, — как неведомый ландшафт и все же как зов собственного нашего сердца, все же, все же и так властно, точно вот-вот воссияют снова былым сиянием отжившие времена, — все же так непреложно, точно в нем заключено все обетование окончательности; о маленький брат, я испытал это, ибо стар, старше своих лет, потому что всегда чувствовал в себе эту уязвимость, эту тленность, я испытал это, так как приближаюсь к своему концу; ах, только взыскуя смерти, взыскуем мы жизни, а во мне, сколько себя помню, безостановочно, непрестанно совершала свою размывающую, разлагающую работу жажда смерти; я всегда чувствовал ее в себе как страх перед жизнью и одновременно страх перед смертью, во все те ночи, на пороге которых я стоял, на берегу ночей, неисчислимых ночей, прошелестевших мимо, навевая своим шелестом знание о себе, знание о разлуке, знание о прощанье, притаившемся в сумерках, то было умирание, что текло мимо, задевая меня в миг прилива, забрызгивая, омывая, притекая извне и все же рождаясь во мне, то было мое умирание: лишь умирающему дано познать общность, дано познать любовь, дано познать переходное царство, лишь в сумерках и в прощанье постигаем мы сон, его скрытую в недрах темной общности безгрешность, постигаем, что нашему отплытию более не даровано будет возвращения, постигаем саму суть греха, заточенного в возвращении, и только в возвращении; ах, мой маленький ночной спутник, и ты когда-нибудь все это узнаешь, и ты будешь когда-нибудь сидеть на берегу-пороге, на берегу твоего переходного царства, на берегу прощания и сумерек, и твой корабль будет снаряжен для бегства, для того гордого бегства, что зовется пробуждением и не ведает возврата. Грезы, о грезы! Пока мы сочиняем стихи, мы медлим двигаться в путь, пока мы медлим в переходном царстве наших ночедней, мы одариваем друг друга надеждами, сплетенными из грез, рожденными общностью томлений, надеждами любви, и потому-то, мой маленький брат, ради этих надежд, ради этих томлений не покидай меня больше; я не хочу знать твое имя, земное, отбрасывающее тень, не хочу звать тебя — ни для отплытия, ни для возвращенья, но останься со мною, непозванный и недоступный зову, останься, чтобы любовь сохранилась и в последнем своем обетовании; побудь со мной в сумерках, побудь со мной на берегу реки, на которую мы взираем, боясь ей довериться, вдали от ее истоков, вдали от ее устья, убереженные от первобытной тьмы абсолютного слияния, убереженные от последнего, ослепительного одиночества Аполлоновых лучей; о, останься со мной, защищая и защищаясь, ведь и я хочу навсегда остаться с тобой; любовь, еще раз любовь; слышишь ли? Слышишь мою просьбу? Дано ли еще моей просьбе, прислушиваясь к себе, услышать тебя, убежав от судьбы, отрешившись от мук?