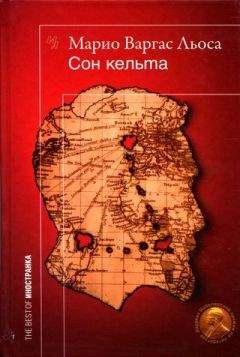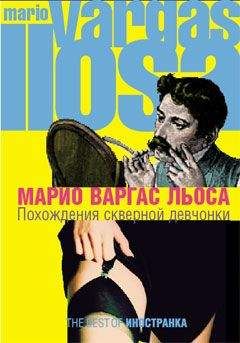Между сеансами на электрическом стуле его, голого, отволакивали в сырую камеру и поливали вонючей водой, пока он не начинал подавать признаки жизни. А чтобы он не спал, веки ему приклеили к бровям лейкопластырем. Когда же и при открытых глазах он впадал в полубессознательное состояние, его будили бейсбольной битой. Несколько раз забивали рот чем-то несъедобным, однажды он почувствовал экскременты, и его вырвало. Позднее в своем стремительном падении в нечеловеческое состояние он уже мог удерживать в желудке то, что ему давали. В первые сеансы на электрическом стуле его допрашивал Рамфис. И все время повторял один и тот же вопрос, ожидая, не собьется ли он. («Президент Балагер замешан?») Он отвечал, неимоверными усилиями заставляя язык повиноваться. Пока наконец однажды не услышал смешки и бесцветный, женоподобный голос Рамфиса: «Хватит, Пупо, молчи. Тебе нечего больше сказать. Я знаю все. Теперь ты только платишь за то, что предал папу». Этот был тот же самый голос, срывающийся, прыгающий, какой был у него после кровавой оргии 14 июня, когда он свихнулся и Хозяину пришлось отправить его в психиатрическую клинику в Бельгию.
После этого последнего диалога с Рамфисом он уже не мог видеть. Ему содрали лейкопластырь вместе с бровями, и пьяный голос весело объявил: «Теперь тебе всегда будет темно, чтобы спал слаще». И он почувствовал, как игла проколола веки. Он не шевельнулся, пока ему зашивали веки. И только удивился, что при зашивании глаз нитками он мучился меньше, чем на электрическом троне. К тому времени уже не удались две его попытки покончить с собой. Первая, когда он изо всех оставшихся сил бросился головой на стену камеры. Но всего лишь потерял сознание и запачкал кровью волосы. Вторая почти удалась. Он вскарабкался по решетке — с него сняли наручники, готовя к сеансу на троне, — и разбил электрическую лампочку. Стоя на четвереньках, он проглотил все стекло в надежде, что внутреннее кровоизлияние прикончит его жизнь. Но у СВОРы постоянно в распоряжении были два врача и маленький медицинский пункт, снабженный всем необходимым, чтобы не дать пытаемым умереть от собственной руки. Его отвезли в медпункт, заставили проглотить какую-то жидкость, вызвавшую рвоту, а в довершение засунули зонд и промыли кишки. И спасли, чтобы Рамфис с приятелями продолжали убивать его потихоньку.
Когда его кастрировали, до конца оставалось недолго. Кастрировали его не ножом, а ножницами в то время, как он сидел на «троне». Он слышал непристойности и возбужденные смешки людей, которые для него были лишь голосами и резким запахом пота и дешевого табака. Он не доставил им удовольствия — не закричал. Они запихали тестикулы ему в рот, и он их проглотил, желая только одного — чтобы это приблизило смерть. Он никогда не подозревал, что мог так страстно этого желать.
В какой— то момент он узнал голос Модесто Диаса, брата генерала Хуана Томаса Диаса, о котором говорили, что этот доминиканец так же умен, как Мозговитый Кабраль или Конституционный Пьяница. Его засунули в одну с ним камеру? И тоже пытали? Голос Модесто звучал горько, обвинял:
— Мы здесь по твоей вине, Пупо. Почему ты нас предал? Разве ты не знал, что с тобой будет? Покайся же в том, что ты предал друзей и свою страну.
У него не было сил произнести хотя бы звук, даже открыть рот. А потом — прошли, быть может, часы, или дни, или недели — он услышал разговор врача СВОРы и Рамфиса Трухильо:
— Невозможно больше продлевать его жизнь, мой генерал.
— Сколько ему осталось? — Это был Рамфис, без сомнения.
— Несколько часов, возможно, дней, если я удвою дозу сыворотки. Но в этом состоянии он электрического разряда не вынесет. Невероятно, что он выдержал четыре месяца, мой генерал.
— Тогда отойди в сторону, я не могу позволить ему умереть своей смертью. Встань позади меня, а то как бы и тебя не пощекотало.
Генерал Хосе Рене Роман, счастливый, принял финальный разряд.
Когда на душный чердак мавританского домика доктора Роберта Рейда Кабраля, где они сидели уже два дня, вернулся доктор Марселино Велес Сантана, выходивший за новостями, и, сочувственно положив ему руку на плечо, сказал, что в его дом на Махатма Ганди приходили и что calies увезли его жену и детей, Сальвадор Эстрельа Садкала решил сдаться. Он заливался потом, задыхался. А что оставалось делать? Позволить этим варварам убить жену и детей? Наверняка их теперь пытают. Тоска навалилась такая, что он не мог даже молиться за семью. И тогда он сказал товарищам, что намерен сделать.
— Ты знаешь, что тебя ждет, Турок, — остановил его Антонио де-ла-Маса. — Тебя не сразу убьют, а прежде помучают, поиздеваются.
— А семью твою будут мучить у тебя на глазах, чтобы ты выдал всех, — поддержал де-ла-Масу генерал Хуан Томас Диас.
— Никому не заставить меня раскрыть рот, даже если сожгут живым, — поклялся он им со слезами на глазах. — Я назову только негодяя Пупо Романа.
Его попросили не уходить раньше их, и Сальвадор согласился остаться еще на одну ночь. Его жена и дети, четырнадцатилетний Луис и Кармен Элли, которой только что исполнилось четыре года, они — в застенках СВОРы, в лапах у садистов и преступников; он всю ночь не сомкнул глаз и, будучи не в состоянии думать ни о чем другом, задыхался и не мог молиться. Совесть терзала его, точила сердце: как мог ты так подставить свою семью? На второй план отошли угрызения из-за того, что его пуля попала в Педро Ливио Седеньо. Бедный Педро Ливио! Где-то он теперь? С ним могли приключиться ужасные вещи.
Вечером 4 июня он первым покинул дом семейства Рейда Кабраля. На углу остановил такси и назвал адрес — улица Сантьяго, где жил Фелисиано Coca Мьесес, племянник жены, с которым у него были хорошие отношения. Он собирался лишь спросить, что тому известно о его жене, детях и других членах семьи, но ничего не вышло. Дверь открыл сам Фелисиано и, увидев Турка, замахал руками так — Изыди! — будто увидел самого дьявола. — Ты зачем тут, Турок? — закричал он зло. — У меня семья, ты что, не знаешь? Хочешь, чтобы нас всех убили? Уходи! Ради всего святого, уходи!
Он захлопнул дверь, и на его лице были страх и отвращение; Турок не знал, что делать. Он вернулся в такси, от глухой тоски кости словно размякли. Несмотря на жару, его пробирал холод.
— Ты меня узнал, правда? — спросил он шофера. Таксист, в надвинутой на лоб бейсбольной шапочке,
не обернулся посмотреть на него.
— Я узнал вас сразу, когда садились, — сказа он совершенно спокойно. — Не волнуйтесь, со мной вам надежно. Я тоже антитрухилист. Если придется убегать, будем убегать вместе. Куда вам ехать?
— В какую-нибудь церковь, — сказал Сальвадор. — Все равно, в какую.
Он решил поручить себя Богу и, если будет такая возможность, исповедаться. А когда снимет груз с совести, то попросит священника позвать полицейских. Они проехали совсем немного в сторону центра, по уличкам, где уже начинали сгущаться тени, и шофер сказал:
— Этот тип донес на вас, сеньор. За нами — два calies.
— Останови, — приказал Сальвадор. — А то они и тебя убьют.
Он перекрестился и вышел из такси с поднятыми руками, показывая вооруженным автоматами и пистолетами людям, что не собирается сопротивляться. Они надели на него наручники, которые врезались ему в запястья, и затолкали на заднее сиденье своей машины; от двух calies, с трудом втиснувшихся по бокам, разило потом и немытыми ногами. Тронулись. Когда поехали по шоссе на Сан-Педро-де-Макорис, он понял, что везут в Девятку. Ехали в молчании, он пытался молиться и огорчался, что это у него никак не получается. В голове, как в кипящем котле, все перемешалось, бурлило, невозможно было удержать ни мысли, ни образа, они метались и лопались, точно мыльные пузыри.
И вот он, знаменитый дом на девятом километре, огороженный высокой бетонной стеной. Они проехали через сад, и он увидел ухоженную усадьбу, старинный дом
среди деревьев, по бокам дома — примитивные строения. Его вытолкали из. машины. Провели полутемным коридором, по обеим сторонам — камеры, набитые голыми людьми, повели вниз по длинной лестнице. Замутило от острого, пронизывающего насквозь запаха экскрементов, блевотины и паленого мяса. Представился ад. Внизу, в конце лестницы, почти уже ничего не было видно, но он разглядел снова череду камер с железными дверями и зарешеченными окошками, а за ними — головы, старающиеся увидеть. В конце подземного коридора с него содрали брюки, рубашку, трусы, ботинки и носки. Он остался голым, в одних наручниках. Ноги вязли в чем-то липком, сплошь покрывавшем неметеный плитчатый пол. Потом его опять тычками затолкали в другое помещение, почти совсем темное. Там его посадили и привязали к разбитому стулу, скрепленному металлическими пластинами — дрожь пробежала у него по телу — с ремнями и металлическими кольцами для рук и ног.
Довольно долго ничего не происходило. Он пробовал молиться. Один из привязывавших его типов, в трусах — его глаза уже начали разбирать тени, — принялся брызгать чем-то вокруг, и он узнал дешевый запах одеколона «Найс», который без конца рекламировали по радио. Пластины, прикрепленные к ногам, ягодицам и спине, холодили, но он потел и задыхался в жарком, спертом воздухе. Он уже различал толпившихся вокруг людей, их силуэты, запахи, черты лица. Узнал рыхлое, с тройным подбородком лицо, венчавшее кургузое пузатое тело. На каком-то банкете он сидел совсем рядом с ним.