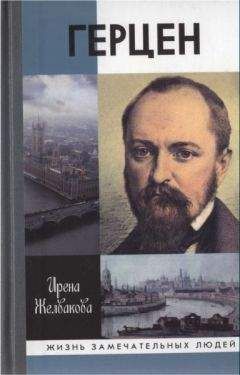А тут мучительное беспокойство — родится ли он живым, или нет? Столько несчастных случаев. Доктор улыбается на вопросы — «он ничего не смыслит или не хочет говорить»; от посторонних все еще скрыто; не у кого спросить — да и совестно.
Но вот младенец подает знаки жизни; я не знаю выше и религиознее чувства, как то, которое наполняет душу при осязании первых движений будущей жизни, рвущейся наружу, расправляющей свои не готовые мышцы, это первое рукоположение, которым отец благословляет на бытие грядущего пришельца и уступает ему долю своей жизни.
«Моя жена, — сказал мне раз один французский буржуа, — моя жена, — он осмотрелся и, видя, что ни дам, ни детей нет, прибавил вполслуха: — беременна».
Действительно, путаница всех нравственных понятий такова, что беременность считается чем-то неприличным; (374) требуя от человека безусловного уважения к матери, какова бы она ни была, завешивают тайну рождения не из чувства уважения, внутренней скромности — а из при-, личия. Все это — идеальное распутство, монашеский разврат, проклятое заклание плоти; все это — несчастный дуализм, в котором нас тянут, как магдебургские полушария, в две разные стороны, Жан Деруан, несмотря на свой социализм, намекает в «Almanach des femmes»,[219] что со временем дети будут родиться иначе. Как иначе? — Так, как ангелы родятся. — Ну, оно и ясно.
Честь и слава нашему. учителю, старому реалисту Гёте: он осмелился рядом с непорочными девами романтизма поставить беременную женщину и не побоялся своими могучими стихами изваять изменившуюся форму будущей матери, сравнивая ее с гибкими членами будущей женщины.
Действительно, женщина, несущая вместе с памятью былого упоенья весь крест любви, все бремя ее, жертвующая красотой, временем, страданием, питающая своей грудью, — один из самых изящных и трогательных образов.
В римских элегиях, в «Ткачихе», в Гретхен и ее отчаянной молитве Гёте выразил все торжественное, чем природа окружает созревающий плод, и все тернии, которыми венчает общество этот сосуд будущего.
Бедные матери, скрывающие, как позор, следы любви, как грубо и безжалостно гонит их мир и гонит в то время, когда женщине так нужен покой и привет, дико отравляя ей те незаменимые минуты полноты, в которые жизнь, слабея, склоняется под избытком счастия…
…С ужасом открывается мало-помалу тайна, несчастная мать сперва старается убедиться, что ей только показалось, но вскоре сомнение невозможно; отчаянием и слезами сопровождает она всякое движение младенца, она хотела бы остановить тайную работу жизни, вести ее назад, она ждет несчастья, как милосердия, как прощения, а неотвратимая природа идет своим путем, — она здорова, молода!
Заставить, чтоб мать желала смерти своего ребенка, а иногда и больше — сделать из нее его палача, а потом ее казнить нашим палачом или покрыть ее позором, (375) если сердце женщины возьмет верх, — какое умное и нравственное устройство!
И кто взвесил, кто подумал о том, что и что было в этом сердце, пока мать переходила страшную тропу от любви до страха, от страха до отчаяния, от отчаяния до преступления, до безумия, потому что детоубийство есть физиологическая нелепость. Ведь были же и у нее минуты забвения, в которые она страстно любила своего будущего малютку, и тем больше, что его существование была тайна между ними двумя; было же время, в которое она мечтала об его маленькой ножке, об его молочной улыбке, целовала его во сне, находила в нем сходство с кем-то, который был ей так дорог…
«Да чувствуют ли они это? конечно, есть несчастные жертвы… но… но другие, но вообще?»
Мудрено, кажется, пасть далее этих летучих мышей, шныряющих в ночное время середь тумана и слякоти по лондонским улицам, этих жертв неразвития, бедности и голода, которыми общество обороняет честных женщин от излишней страстности их поклонников… конечно, в них всего труднее предположить след материнских чувств. Не правда ли?
Позвольте же мне рассказать вам небольшое происшествие, случившееся со мною. Года три тому назад я встретился с одной красивой и молодой девушкой. Она принадлежала к почетному гражданству разврата, то есть не «делала» демократически «тротуар», а буржуазно жила на содержании у какого-то купца. Это было на публичном бале; приятель, бывший со мною, знал ее и пригласил выпить с нами на хорах бутылку вина; она, разумеется, приняла приглашение. Это было существо веселое, беззаботное и, наверное, как Лаура в «Каменном госте» Пушкина, никогда не заботившаяся о том, что там, где-то далеко, в Париже, холодно, слушая, как сторож в Мадриде кричит «ясно»… Допивши последний бокал, она снова бросилась в тяжелый вихрь английских танцев, и я потерял ее из виду.
Нынешней зимой, в ненастный вечер, я пробирался через улицу под аркаду в Пель-Мель, спасаясь от усилившегося дождя; под фонарем за аркой стояла, вероятно ожидая добычи и дрожа от холода, бедно одетая женщина. Черты ее показались мне знакомыми, она (376) взглянула на меня, отвернулась и хотела спрятаться, но я успел узнать ее.
— Что с вами сделалось? — спросил я ее с участием.
Яркий пурпур покрывал ее исхудалые щеки, стыд ли это был, или чахотка, не знаю, только, казалось, не румяны; она в два года с половиной состарелась на десять.
— Я была долго больна и очень несчастна, — она с видом сильной горести указала мне взглядом на свое изношенное платье.
— Да где же ваш друг?
— Убит в Крыму.
— Да ведь он был какой-то купец? Она смешалась и вместо ответа сказала:
— Я и теперь еще очень больна, да к тому же работы совсем нет. А что, я очень переменилась? — спросила она вдруг, с смущением глядя на меня.
— Очень, тогда вы были похожи на девочку, а теперь я готов держать пари, что у вас есть свои дети. Она побагровела и с каким-то ужасом спросила:
— Отчего же вы это узнали?
— Да, видите, узнал. Теперь расскажите-ка мне, что с вами в самом деле было?
— Ничего, ну только вы правы, — у меня есть маленький… если б вы знали, — и при этих словах лицо ее оживилось, — какой славный, как он хорош, даже соседи, все, удивляются ему. А тот-то женился на богатой и уехал на материк. Малютка родился после. Он-то и причина моему положению. Сначала были деньги, я всего накупила ему в самых больших магазейных, а тут пошло хуже да хуже, я все снесла «на крючок»; мне советовали отдать малютку в деревню; оно, точно, было бы лучше — да не могу; я посмотрю на него, посмотрю — нет, лучше вместе умирать; хотела места искать, с ребенком не берут. Я воротилась к матери, она ничего, добрая, простила меня, любит маленького, ласкает его; да вот пятый месяц как отнялись ноги; что доктору переплатили и в аптеку, а тут, сами знаете, нынешний год уголь, хлеб — все дорого: приходится умирать с голоду. Вот я, — она приостановилась, — ведь, конечно, лучше б броситься в Темзу, чем… да малютку-то жаль, на кого же я его оставлю, ведь уж он очень, очень мил!
Я дал ей что-то и, сверх того, вынул шиллинг и сказал: (377)
— А на это купите что-нибудь вашему малютке.
Она с радостью взяла монету, подержала ее в руке и, вдруг отдавая мне ее назад, прибавила с печальной улыбкой:
— Уж если вы так добры, купите ему тут где-нибудь в лавке сами что-нибудь, игрушку какую-нибудь — ведь этому бедному малютке, с тех пор как он родился, никто еще не подарил ничего.
Я с умилением взглянул на эту потерянную женщину и дружески пожал ей руку.
Охотники до реабилитации всех этих дам с камелиями и с жемчугами лучше бы сделали, если б оставили в покое бархатные мебели и будуары рококо и взглянули бы поближе на несчастный, зябнущий, голодный разврат, — разврат роковой, который насильно влечет свою жертву по пути гибели и не дает ни опомниться, ни раскаяться. Ветошники чаще в уличных канавах находят драгоценные камни, чем подбирая блестки мишурного платья.
Это мне напомнило бедного умного переводчика «Фауста», Жерар-де-Нерваля, который застрелился в прошлом году. Он в последнее время дней по пяти, по шести не бывал дома. Открыли, наконец, что он проводит время в самых черных харчевнях возле застав, вроде Поль Нике, что он там перезнакомился с ворами и со всякой сволочью, поит их, играет с ними в карты и иногда спит под их защитой. Его прежние приятели стали его уговаривать, стыдить. Нерваль, добродушно защищаясь, раз сказал им: «Послушайте, друзья мои, у вас страшные предрассудки; уверяю вас, что общество этих людей вовсе не хуже всех остальных, в которых я бывал». Его подозревали в сумасшествии; после этого, я думаю, подозрение перешло в достоверность!
Роковой день приближался, все становилось страшнее и страшнее. Я смотрел на доктора и на таинственное лицо бабушки с подобострастием. Ни Наташа, ни я, ни наша молодая горничная не смыслили ничего; по счастию, к нам из Москвы приехала, по просьбе моего отца, на это время одна пожилая дама, умная, практическая и распорядительная. Прасковья Андреевна, видя нашу беспомощность, взяла самодержавно бразды правления, я повиновался, как негр. (378)