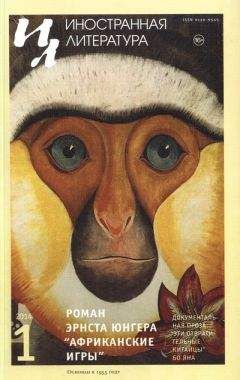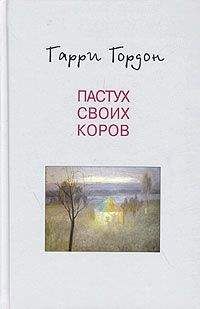Его прикрытые верблюжьи глаза распахнулись и ненадолго замерли на ее лице. Она увидела, что он понял. Еще он понял, что она раскаивается за ту безобразную сцену, которую устроила два с лишним года назад: если бы знала тогда, что всю оставшуюся жизнь их будет разделять тюремная решетка, то была бы с ним ласкова, ценила бы каждый день, каждый час. Тацуру отказывалась от всех обвинений, которые на него возложила.
— Эрхэ… — она смотрела в пол.
Он тоже глядел в пол. Они часто так рассматривали друг на друга: смотрели на пол, в пустоту или куда-то внутрь себя, а видели другого. Так повелось у них с самого начала. Глянут мельком, отведут глаза и увеличивают образ, который успели ухватить, внимательно рассматривают его, снова и снова.
Впервые она увидела его, сидя в белом холщовом мешке. Из мешка казалось, что все вокруг затянуто плотным белым туманом. Тацуру лежала на помосте, а он вышел к ней из этого тумана. Она съежилась в мешке, взглянула на него и тут же закрыла глаза, хорошенько запомнила все, что увидела, и раз за разом прокручивала в памяти. Высокий — это точно, но движения у высоких обычно неуклюжие, а у этого нет, и лицо такое ладное. Он взял мешок на руки, ее грудь прижалась к его груди. Он нес ее на руках, прокладывая путь сквозь ряды грязных ног, и она вдруг перестала бояться и этих ног, и гогота их хозяев. Потом он занес ее во двор. Сквозь белую дымку она разглядела очень хороший двор. И дом тоже хороший. Хорошая семья. Зашли в дом, и из снежного дня она будто перенеслась в лето. Дом гудел от тепла, и скоро Тацуру провалилась в сон. Когда очнулась, кто-то развязывал узел на мешке, прямо у нее над головой.
Мешок съехал вниз, и Тацуру увидела его — мельком, одним глазком. И потом медленно рассматривала образ, который успела ухватить: он не урод. Нет, не так: он очень хорош собой. Красив мужественной красотой. И глаза с прикрытыми веками чудо как хороши. Устыдился своей мягкости и доброты, вот и опустил веки. Потом… Он снова взял ее на руки и отнес на кан…
Она часто вспоминала начало их знакомства. Иногда сомневалась: вдруг память ее подводит? Но это была их самая первая встреча. Разве могла она запомнить что-то не так? Ведь прошло всего двадцать лет! Спустя пятьдесят, шестьдесят лет Тацуру все равно не забыла бы этот день.
Теперь он был заключенным, а она — родственницей, допущенной до свидания. В ответ на ее приглашение он кивнул. А конвоир услышал: каждый вечер в девять думай о Дохэ, Дохэ тоже будет думать о тебе. Так ты и Дохэ — увидитесь.
С того дня каждый вечер ровно в девять Тацуру сосредоточенно думала о нем, чувствовала, как он является на свидание точно вовремя, усталый, словно верблюд, и глаза Чжан Цзяня, равнодушные к людям, забравшим его в рабство, оказывались прямо перед ее лицом. Очутись Тацуру в другом мире, он все равно не опоздал бы на свидание.
Однажды Тацуру вспомнила про мысль о самоубийстве, которая прежде неотступно ее преследовала, и удивилась: куда она вдруг пропала? Сяохуань все так же день за днем вздыхала: «Как-нибудь сойдет», смеялась: «Как-нибудь сгодится», обижалась: «Уж как-нибудь сойдет!» — и дни катились дальше, увлекая за собой и Тацуру, и саму Сяохуань. По правилам Тацуру, если работу нельзя сделать без сучка и задоринки, за нее не стоит и браться, а Сяохуань здесь подлатает, тут поправит, один глаз прищурит, другим посмотрит, и любое дело у нее худо-бедно, а клеится. Жизнь несладкая, но можно как-нибудь прожить, не хуже других. Так в один миг прокатился целый месяц, а за ним и лето миновало. Еще миг, и настала осень. Оказывается, вовсе оно не скверное, это «как-нибудь», а даже удобное, если привыкнуть. Тацуру стояла среди ранней осени 1976 года, изумляясь: «как-нибудь» незаметно погасило в ней последние искры мыслей о самоубийстве.
Она тоже выучилась находить причины, чтобы жить дальше, такие же смешные, как у Сяохуань: «Мне нельзя умирать, если я умру, кто будет вам лепить пельмени с баклажановой начинкой? Кто вам вермишель из гороховой муки приготовит?», «Я жить должна, если умру, где еще попробую такую вкусную дыню?» А у Тацуру была своя причина: ей нужно спешить на встречу, ведь каждый вечер ровно в девять у нее свидание с Чжан Цзянем, нельзя, чтобы он пришел и не застал ее на месте.
В октябре по всему городу колесили агитмашины сталеплавильного завода, воздух сотрясал звон гонгов и бой барабанов, все репродукторы в округе гремели, празднуя назначение нового председателя ревкома. Прежнего председателя Пэна согнали с места и объявили врагом. Сяохуань в своей мастерской шутила: «Нового врага сыскали и с гонгами да барабанами празднуют!»
Старые счета нового врага надо заново пересчитать. И старых врагов нового врага — заново пересудить. Скоро суд пересмотрел дело Чжан Цзяня и заменил смертную казнь двадцатью годами заключения.
Сяохуань говорила Дохэ: «Надо вытащить оттуда Чжан Цзяня, пока этот новый председатель не превратился в нового врага. Как знать, вдруг его тоже сгонят с поста и все опять с ног на голову перевернется?»
Завхоз Чжао называл ее теперь «сестрицей», а она его «братцем». Поначалу завхоз только принимал подношения Сяохуань, но мало-помалу и сам стал носить ей подарки. Как и низкопробные друзья Сяохуань, завхоз чувствовал в ней какую-то невыразимую силу и только рад был услужить сестрице, почитая за счастье оказаться полезным. Каждый раз вместе с завхозом в их дом попадали продукты из столовой лагерного руководства: ароматное кунжутное масло, копченые колбаски, стеклянная лапша с опятами и древесными грибами. Чжао давным-давно позабыл, что завязал дружбу с Сяохуань только ради того, чтобы подобраться к Сяо Тан. Увидав, как люди толпятся у швейной машинки и носятся наперегонки, пытаясь удружить Сяохуань, он вознегодовал: «Шваль, а туда же — ухаживать за сестрицей! Притащил кулек с редиской в соевом соусе и думает, что может целый день возле нее толочься!»
Поскреби у завхоза Чжао под ногтями, и то больше жирка найдешь, чем у всех этих людишек есть за душой. Он устроил Чжан Те в народную школу [121] учителем физкультуры, и «антияпонская база», организованная дома старшим сыном, была ликвидирована: теперь Дахай переехал в общежитие.
Сяохуань пока не заводила разговор о том, чтобы завхоз через свои связи добился пересмотра дела Чжан Цзяня. Дожидалась удобного случая. Случаи она использовать прекрасно умела и хорошо чувствовала, когда, что и как сказать. О деле Сяохуань собиралась заговорить после Нового года, к тому времени и габардиновая суньятсеновка, которую она шила для завхоза, должна быть готова.
На малый Новый год домой вернулся младший, Чжан Ган. Сяохуань с Дохэ даже не ожидали, что он так вытянется и поздоровеет. Зашел в квартиру, выпил чая и побежал обратно на улицу. Сяохуань спросила, куда это он отправился, а Эрхай словно воды в рот набрал, только его и видели. Дохэ и Сяохуань вышли на террасу, глянули с балкона: внизу лежала здоровенная скатка с матрасом, одеялом и постелью. Когда Чжан Ган принес ее наверх, Сяохуань поинтересовалась: «И зачем приданое притащил? После Нового года все равно обратно ехать!» Эрхай ничего не ответил, только рассмеялся сквозь зубы, глядя на скачущего вокруг Черныша.
Он занес одеяло с матрасом на балкон, Черныш запрыгнул передними лапами хозяину на грудь, от радости пасть у пса растянулась от уха до уха. Чжан Ган перекинул одеяло через балкон и потряс им так, что оно звонко захлопало. Теперь лапы Черныша упирались ему в спину.
— Ну, рассиропился… Я уже никуда не уеду!
Только тут, благодаря Чернышу, Сяохуань и Дохэ наконец выведали, что на уме у Чжан Гана. Если останется в городе, у него одна дорога: стать хулиганом и слоняться всюду без дела, как те афэи, что целыми днями торчат у ее лотка. Поступая наперекор школе, жилкомитету, семье, афэи упорно отказывались ехать в деревню; сначала общество объявило их хулиганами, а там они и вправду охулиганились — что еще оставалось. Глядя на руки Чжан Гана, покрытые ознобышами, на его опухшие красные пальцы, яркие, словно агаты, Сяохуань подумала: хулиганом так хулиганом, не беда.