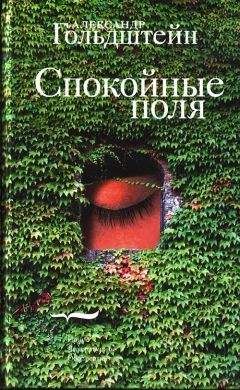Самое чувственное и риторическое место на свете превратилось в заштатный египетский городишко, сохранив только имя, которое мы вольны повторять, как тавтологическую розу Гертруды, или обращать его вспять, как палиндромную розу Азора. Имя важнее, чем город. Город печального солнца — в его непременно закатных лучах обитает усталое вожделение, и воздух дрожит от бесплодной стоической филологии, и слишком здесь много невстреч, чтобы кто-нибудь верил в долговечность любви. Но сполохи страсти посреди мнимостей и обмана — они ведь чего-то стоят?
Писатель, сознающий себя в первую очередь литератором Средиземноморья, способен эту древнюю страсть сохранить. Но пока такой общины нет. Она — дело будущего. А дело неотложного настоящего — написать черную комедию в проклинающем стиле, чтобы послать все на хер, но на это ни у кого не хватает ни силы, ни смелости. Ни у кого, вот что обидно до слез.
Зато мы породили здесь карликовую газетную культуру, на большее не хватило сил, и следует дать отступление о местных газетах, которыми я все это время кормился. Газеты — коллективное бессознательное русской общины. Или ее коллективное сознание. Это шум ее сознания, уместивший в себя все, чем можно дышать в этом климате. Русская пресса в Израиле умудрилась создать газетный сверхтекст, резко отличный от материкового русского: в нем иначе нападают, по-другому жалуются на судьбу и обучают правильной идеологии. Газеты оказались единственно самобытным местным культурным созданием, по крайней мере таким, в котором выразились хоть какая-то воля к творческой власти, страсть к непрерывному производству, безостановочный семиозис. Потому что в литературном смысле русско-еврейская иммиграция в Израиль, безусловно, не удалась. Так вот, газеты. Эйхенбаум говорил, что главное отличие революционной жизни от обычной в том, что в революцию все ощущается и жизнь становится искусством; эмигрантское существование в этом отношении похоже на революционное. Гул коллективных эмоций, когда жизнь оказалась не фабульной, а сюжетной, этот гул наполнил газеты, и они зазвучали, как «Колокол» в коммунальной квартире. Русская пресса Израиля стала фабрикой новых эмоций и нового языка: бедная дщерь Сиона в одеянии из кириллицы, наша речь распахнула себя каждому, кто о том вымолвил хотя бы словечко, и, конечно, правильно сделала, потому что целомудрие ей было отнюдь не по возрасту. Домотканый невинный разврат вскорости обернулся вавилонским, ибо некогда скромная дщерь разместила во чреве своем столь далеко отошедшие в разные стороны языки, что понимание оказалось затруднительно, как на древних развалинах не в меру честолюбивого зиккурата. Поздний лоск упадочных имперских канцелярий, гебраизированная тарабарщина необарбаризмов («use Hindi — your national language»), цинический слэнг русского весеннего журнализма после конца света, провинциальное бедствие ниже среднего вкуса — они превосходно дополняли друг друга в общей беспросветной каше, которая еще не съедена, а только поспевает на плите, под подушкой, Бог знает в каких местах. Газеты дали срез младописьменного речевого сознания выброшенных из обыденного распорядка людей. Эти повременные листки стали невольными, бестолковыми «пробниками» неорусского языкового сознания, которое, может быть, здесь возникнет когда-нибудь после газет в их теперешней функции — дневника коллективного существования. Русская эмиграция — это организация политических пробников, не имеющих классового самосознания, писал в свое время Шкловский. Мы не русская интеллигенция, и даже, скорее всего, не русская эмиграция, но мы промежуточная группа без надлежащего самосознания и писать предпочитаем сами о себе — про то, как у нас ничего не получается, как нам все время не пишется, а нужно зарабатывать деньги в этой жаре, ну и так далее. Газеты оказались пробниками в том смысле, что уже после них, на их костях, орошенных чужим семенем, здесь, вероятно, будут сформулированы какие-нибудь замечательные негазетные концепции русской умственной жизни, а местная жизнь выходцев из Галиции и Магриба сольется с лексическим фондом народов СССР.
Газеты общины — единственное письменнное свидетельство ее истории, за исключением документов, повесток и справок из налогового управления. Единственное групповое свидетельство ее вздохов, угроз, сожалений, первичного накопления и вторичного обнищания. Это ее временник, подневная летопись, ее сомнительная грамота на компьютерной бересте и многочисленные кумранские свитки, в каждом из которых непременно поучает свой учитель справедливости. Если всю эту гору бумаги не сведут воедино, не опишут и не изучат (а какой-нибудь аспирант из орбиты «Анналов», понаторевший в исследовании «менталитетов», дорого дал бы за тему подобного доктората, за возможность порыться в наших макулатурных россыпях), ничего не останется, память исчезнет, а с ней заодно и община, обреченная жить без истории и даже без мифологии, как одичавшее племя. Сколько раз на меня, вынужденного работать в них для прокорма, нападали в здешних листках, и как это огорчало моего отца. Мельникова очень развлекала наша печатная продукция, образцы которой я ему исправно пересылал…
* * *
Летом 1989 года, в жарком дворе большого старого дома, мы с Сергеем стояли и ждали, пока вынесут в гробу старушку, бабку одного нашего общего армянского знакомого. Играла дудка, стучал траурный барабан, пел и кричал старик-плакальщик. Хорошо, что она умерла сейчас, сказал Мельников. Ведь скоро армянских похорон в городе не будет. Кого надо убьют, остальных прогонят. Вы как всегда преувеличиваете, сказал я. Вряд ли властям выгоден вселенский позор. Людей будут всячески унижать, запугивать, провоцировать на отъезд — хватит и этого, чтобы решить все проблемы. — Мало того, что вы безродный космополит, — сказал Мельников, — вы еще оптимист. А у меня самые скверные предчувствия. Эту жизнь и людей разрушат, как ваш памятник.
Он имел в виду сцену, которой я стал случайным зрителем: погожим весенним днем разымали на блоки, кряхтя, матерясь, волочили по чахлой траве и наконец увезли в неизвестном направлении знаменитый горельеф, изображающий мученическую кончину первого городского советского правительства, признанного армянским. Весь в волнообразных завихрениях, исполненный пергамской патетики, он зафиксировал стремление полуобнаженных тел вырваться из пределов отмеренной им плоскости, преодолеть каменную хватку доистории, докоммунистической стадии жизни людей.
Примерно за год до описываемых событий, когда все вокруг начало неотвратимо меняться, Мельниковым овладела бескорыстная страсть к предсказаниям. Легко объяснимая изнутри разора, обещавшего превратиться сперва в хаос, а затем в гибельный для нас новый порядок, эта страсть тем не менее казалась мне гротескной и жалкой, как отроческие поллюции зрелого человека. Особенно же комичной она была в исполнении чистюли, все бранившего русскую мысль, которая, на его взгляд, так и не научилась ежедневно принимать ванну, пользоваться дезодорантами и вообще привыкла есть селедку вместе с газетой. Мельников нимало не реагировал на мои наскоки и, аккуратно занося стихотворные, в манере то ли Козьмы Пруткова, то ли Лукианова Лжепророка Александра, политические предсказания на мелкие блокнотные листки (обычно он загадывал на три-четыре месяца вперед, максимум на полгода, чтобы не потерялся интерес и легко было сверить), складывал их в выдвижной ящик старушечьего бельевого комода, прямо на чистые простыни, доставшиеся ему в наследство от матери вместе с самим комодом и коллекцией майсенского фарфора — она, по слухам, вместе с остальным барахлом, облегчила ему последние сроки, когда он болел к смерти, а сбережения были сожжены инфляцией. Иногда он выказывал изощренную проницательность, порой попадал в очевидный, загодя различимый просак, находясь в плену очень личных, плохо понятных мне построений, об истоках и сути которых не распространялся; но еще чаще события, не останавливаясь, подобно дорогому экспрессу, на глухих полустанках, проносились мимо нас в какое-то не бывшее в момент предсказания измерение, держа путь к территориям, внеположным бельевым оракулам. В этой якобы насмешливой предсказательной практике мне виделось неприятное сочетание вынужденной телесной опрятности с греховными выделениями измученной девственности. «Вы, кажется, утомились быть нашим мсье Тэстом и склоняетесь к птичьим внутренностям», — сказал я ему как-то и произнес вслух специально припасенный к очередному приходу фрагмент воспоминаний о Николае Недоброво, полагая, что он стилизует себя в этом роде: «Теперь, в свете свершившегося, кажутся неудивительными его пророчества: „а как могло быть иначе?“ — тогда же он многим казался фантазирующим чудаком. В пору первых дней Керенского он подробно рассказывал о победе большевиков, о разорении крестьянского хозяйства, о голоде, даже о пресловутой „помощи Антанты“ Добровольческой Армии; иногда, увлекаясь фантазией, он рассказывал будущие эпизоды антропофагии и живописал „невероятные“ события — как жутко было через несколько лет читать эти самые эпизоды в газетах уже в виде заметок реального быта. Выводя логически антропофагию из мыслимого им движения голода, он рассказывал о ней в тоне фантастики, как бы сам стараясь придать своим выводам менее убедительную форму — но с какой точностью был им предвиден путь стихий». — «Ну да, ну да, — ответил Сергей, — я это читал в свое время вместе с другой мертвечиной про Серебряный век, который их ебаная филология будет глодать и уписывать еще двести лет, пока не сдохнет от заворота кишок. У нас с вами большая разница в возрасте».