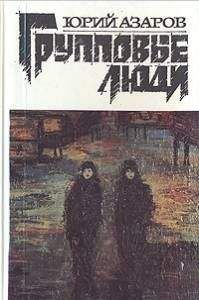"Макиавелли, — писал Каменев в 1934 году, — сделал из своего трактата поразительный по остроте и выразительности каталог правил, которыми должен руководствоваться современный ему правитель, чтобы завоевать власть, удержать ее и противостоять всем покушениям на него". Хорош у вас, Каменев, был учитель, но вы (в этом надо вам отдать должное) превзошли своего учителя.
Дальше вы пишете в этом предисловии: "Это — далеко еще не социология власти, но зато из-за этой рецептуры великолепно выступают зоологические черты борьбы за власть в обществе рабовладельцев, основанном на господстве богатого меньшинства над трудящимся большинством".
Это так. Но вы хотели эти методы борьбы и принципы борьбы, достойные рабовладельцев, перенести в наше общество, применить против нашего общества, против социализма. "Так, — пишете вы, — этот секретарь флорентийских банкиров и их посол при папском дворе — вольно или невольно — создал снаряд громадной взрывчатой силы, который в течение веков беспокоил умы господствующих…" Вы, Каменев, перенесли эти правила Макиавелли и развили их до величайшей беспринципности и безнравственности, модернизировали и усовершенствовали их.
Я вас не прошу, товарищи судьи, рассматривать эту книгу в качестве одного из вещественных доказательств по данному делу. Я вовсе не оперирую этой книгой для того, чтобы доказывать виновность подсудимых в тех преступлениях, в которых они обвиняются. Я просто счел необходимым отдать этому обстоятельству несколько минут внимания для того, чтобы показать тот идейный источник, которым питались в это время Каменевы и Зиновьевы, пытающиеся еще и сейчас, на процессе, держаться в соответствии с принципами марксизма.
Бросьте эту шутовскую комедию. Откройте, наконец, и до конца свои настоящие лица. Здесь о книге Макиавелли Каменев говорит как о снаряде огромной взрывчатой силы. Очевидно, Каменев и Зиновьев хотели воспользоваться этим снарядом, чтобы взорвать наше социалистическое Отечество. Просчитались. И хотя Макиавелли перед ними щенок и деревенщина, но все же он был их духовным наставником. Вы из макиавеллизма и азефовщины сделали для себя источник вашей деятельности и ваших преступлений. Теперь это разоблачено самими Зиновьевым и Каменевым: убийство, коварство, вероломство и маскировка были одним из основных, решающих методов их преступлений и деятельности".
— Каменев слушал обвинительную речь, и крупные слезы текли по его бледному лицу, — так закончил свой рассказ Лапшин.
— Все интересно, — сказал Никольский. — Только вот насчет слез не надо.
— Почему? — спросил я.
— Потому что он был Каменев, — ответил Никольский.
"Я прочла ваши записки о Каменеве и других. Во мне что-то по-новому засветилось. Оказывается, поняла я, есть такие сферы человеческой души, которые закрыты от нас. Точнее, от меня. Этой сферой я теперь называю не только потребность истинности, но и горячее желание очиститься от лжи. От всего дурного, что мы нажили себе.
Я наблюдаю за своей подругой Надей Скорик и ощущаю, как она барахтается в нижних этажах своих притязаний, обманывает себя, гоняясь за чувственными миражами. Вчера читала Пушкина и впервые узнала, что слова: "Мне грустно и легко, печаль моя светла. Печаль моя полна тобою…" — это обо мне. Все, чем я живу, окрашено светлой грустью. Везде ты. Всюду. И мне легко и весело. Я живу в твоем прекрасном и чистом мире, и никто не знает об этом. Три дня тому назад я участвовала в соревнованиях, не смейся, я пробежала дистанцию в тысячу метров лучше всех. И знала, что алая ленточка принадлежит мне. Я первой коснулась ее. И когда мне надо было обогнать двух наших перворазрядниц, во мне вдруг обнаружилась такая легкость, что я уже не бежала, а летела, а стадион ревел в восторге, и я знала, что это в нашу с тобой честь орет толпа. А потом, представь себе, меня интервьюировали для местной газеты, и я несла всякую, чепуху. На вопросы: "Как вы тренируетесь, как развиваете тело, как сочетаете спорт, учение, труд и всякое такое…" — я отвечала словами, которые вычитала из Данте:
— Мы боимся признаться себе, что живем как бы в двух планах: жизнью тела и жизнью сердца. Иногда духовное наше "я" не желает знать, что делает и к чему стремится телесное. — Тот, кто брал интервью, был так заносчив и глуп, что я не выдержала и тоже наговорила ему. Он, например, спросил:
— Что вы имеете в виду, когда говорите о духовном и телесном в человеке? Не секс ли?… Я разозлилась и спросила:
— А вы считаете, "Вита новус" — сексуальное произведение? Он, должно быть, не знал, что у Данте есть, и такое произведение. И спросил у меня:
— Вы чем-то огорчены?
— Да. Я вынуждена покинуть свою работу.
— Какую?
— Кинематограф, — ответила я.
— И в какой роли вы там?
— У меня аристотелевская должность — катарсис в чистом виде…
Молодой человек, должно быть, и этого словечка не знал, и если бы не один нахальный подросток, который разинув рот слушал нас, то неизвестно еще, чем бы кончилось мое первое в жизни интервью. Этот противный подросток заорал на весь стадион:
— Да мозги она вам пудрит. Уборщицей она вкалывает в кинотеатре "Космос".
Я, однако, не смутилась и сказала:
— Ну вот, мальчик прекрасно знает, что такое катарсис.
…И вот я расстаюсь с кинематографом. В школе, которую я закончила, нашлась для меня постоянная работа. Немного, всего на сорок рублей, но настоящая работа. Не могу сказать, чтобы я с детства мечтала быть учителем. Для меня это было чем-то недосягаемым. Начиная со своей первой учительницы и ко всем остальным учителям я относилась с благоговением. Потом я стала выделять настоящих учителей.
Позже я поняла, что учителем может быть любой человек, у которого есть чему учиться. Я стала различать слова "учитель" и "педагог". К учителям я относила работников школ, а к педагогам самых различных людей, учителей от природы. В первую очередь к педагогам я относила свою маму. Необыкновенное терпение ее восхищало всех людей, ее знающих.
Еще большим природным даром обладает моя младшая сестра. Малыши двора ходили за ней по пятам. Да и она от игры с ними получала немало удовольствия.
Я в этой системе образую какое-то промежуточное, среднее звено. Но уже на первом курсе искала возможные средства, чтобы пообщаться с детьми. Но тогда мысль стать учителем даже не закрадывалась в мою голову. С возрастом мое преклонение перед учителем не исчезало, а увеличивалось. Себя для этой роли я считала недостойной. А вот теперь через несколько дней я должна работать в школе. Правда, это будут не уроки, а группа продленного дня, где с детьми можно гулять, играть и просто так разговаривать о чем хочешь. Но ведь все равно ты их чему-то будешь учить. Долго я мучилась и терзалась: а имею ли я право вот так, без специального образования, идти к детям? Я считала себя большой эгоисткой. Конечно, дети дают тебе больше, чем можешь дать им ты, вот ты и рвешься.
Но возможность практически попробовать себя была сильнее всех моих теоретических рассуждений. И вот в одно зимнее, белое от снега утро я оказалась в коридоре своей родной школы. И завуч познакомила меня с моей группой".
После двухнедельной командировки в колонию 6515 дробь семнадцать Никулин, Вселенский и Канистров сделали на двух заседаниях лаборатории обстоятельные доклады. Для меня, как, впрочем, для Никольского и Лапшина, Заруба и его дело открылись с совершенно иной стороны.
— Что я вам должен сказать? — начал свой доклад Никулин. — Я потрясен тем, что увидел в этой колонии. Все разговоры о перестройке нашего общества останутся лишь разговорами, если наши теории не будут подкреплены практическими результатами. Здесь мы имеем цельный опыт или, как замечал Макаренко, имеем индукцию цельного опыта, где методика параллельного действия позволяет ускоренными темпами решать проблемы осуществления ближней, средней и дальней перспектив как личности, так и коллектива.
Прежде чем развернуть некоторые важные и даже несколько непривычные для нашего слуха ценности этого опыта, мне бы хотелось остановиться на чисто внешней организационно-бытовой стороне колонии. Что сразу бросается в глаза — это необыкновенная опрятность и чисто советская, я бы сказал, коммунистическая атрибутика, характеризующая направленность работы воспитательного процесса, его соревновательный принцип, трудовой накал. В центре колонии — знамя. Правда, знамя с траурной лентой, которая означает, что не все еще достигнуто колонистами, что многое агонизирует, находится при смерти. Черная лента — это наши всеобщие пороки, наши просчеты, наши беды. И колонисты честно об этом говорят. Справа от знамени — доска соревнований: каждое утро председатель Совета коллектива перед завтраком в присутствии актива колонии и всех желающих (гласность во всем и всегда!) вывешивает вымпелы и выставляет определенное количество баллов бригадам, отрядам, звеньям, а также отмечаются определенными знаками отдельные осужденные, отличившиеся за предыдущий день или неделю.