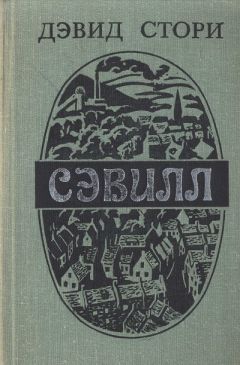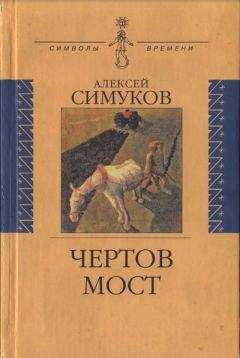Они некоторое время стояли у обрыва и глядели в ту сторону, откуда взобрались на него. Ниже них мужчина с ружьем шел по краю луга, всматриваясь в деревья.
— Наверное, охотится на лесных голубей.
Из дула вскинутого ружья вырвалось облачко дыма, секунду спустя донесся сухой треск выстрела.
— Вот, пожалуй, еще чисто мужское занятие, — добавил он.
— Какое? — Она взглянула на него.
— Охота. И война, — сказал он. — Тоже определенный склад мышления?
— Да, — сказала она. — Безусловно.
Снизу из леса донесся дальний стук топора. Позади них у подножья гряды начиналась всхолмленная равнина с шахтами и перелесками. Она тоже купалась в голубоватой дымке, словно они глядели на далекое озеро.
— Но ведь это же должно быть очень тяжело, — сказал он. — Вот так делить мир, — добавил он.
— Почему тяжело? — сказала она, и ее глаза просветлели.
— Поглядеть хотя бы вот на это, — сказал он, кивнув в сторону долины внизу. — Поля, возделанные мужчинами по законам экономики, сформулированным мужчинами, — работа в основном мужская. Изгороди, посаженные мужчинами, железные дороги, спроектированные и построенные мужчинами для машин, изобретенных мужчинами. Шахты, где работают только мужчины, снабжающие топливом промышленные предприятия, которыми управляют мужчины. Если следовать такому разделению, перечень получается бесконечным.
— Но какая еще тут возможна точка зрения? — сказала она. — Должна ли женщина смириться с положением прислужницы?
— Она вовсе не прислужница, — сказал он. — Она помогает создавать все это.
Маргарет засмеялась.
— Просто удивительно, как глубоко укоренились эти предрассудки! — Она направилась к тропинке, которая вела вниз.
Он последовал за ней, но, когда вышел на поляну, она уже убрала в сумки пустые пакеты и бумагу. Оставшийся в ее термосе апельсиновый сок она вылила в чашку и протянула ему.
— А странно! — сказал он, усмехнувшись.
— Что странно? — В ее голосе, словно предостережение, появилась почти угрожающая нотка.
— Такое переворачивание мира вверх тормашками. Словно у человека там, где полагается быть голове, торчат пятки. Ведь если женщины органически обладают теми качествами, о которых ты говорила, они так или иначе должны были бы их проявить.
— И проявляли! — сказала она. — Просто у них никогда не было ни экономической, ни духовной свободы для достаточного их развития.
— Не понимаю почему. — Он мотнул головой. — В определенных отношениях ты, как и люди вроде Мэрион и Одри, обладаешь гораздо большей свободой, чем я.
— Свободой — для чего?
— Чтобы найти себя.
— Я этого не вижу.
— С тех пор как я себя помню, мою жизнь определяли обязательства других людей. Мне дали образование, чтобы выполнить определенные обязательства. Я работал на фермах из-за чьих-то обязательств. У меня ни разу даже не было возможности сесть и подумать, чем я, я сам, хотел бы заняться. Меня пустили бегать, как заводную мышь, и стоит пружине раскрутиться, как отец, мать или кто-нибудь облеченный соответствующей властью снова ее заводит.
— Может быть, тебя и подавляют, — сказала она. — Но по-другому.
— Но я-то не хнычу из-за этого. Не то что ты. Не вижу все в черном свете. — Он неопределенно махнул рукой, в которой все еще держал чашку. — Это же значит глядеть на жизнь одним глазом. И осуждать тех, кто смотрит на нее двумя. Ты и девушки вроде тебя обладаете такой свободой, какая мне и не снилась.
Она засмеялась и встряхнула головой, удивленная вспышкой, которую вызвала.
— Да, мы свободны быть тем, что определено для нас заранее. И никакого другого выбора. Иллюзорная свобода! Ну, а ты… ты можешь быть чем захочешь. У тебя есть свобода работать.
— Разве для этого нужна свобода?
— Ты бы знал, если бы тебя до такой работы не допускали!
— Во всяком случае, я не представляю, как это можно было бы изменить.
— Потому что не хочешь, чтобы кто-нибудь что-нибудь изменял, — сказала она. — Тебе и так хорошо.
— Мне хорошо? — сказал он.
Она засмеялась.
— Людям всегда хорошо в привычной обстановке. Они сопротивляются любой перемене. Слишком большими опасностями она чревата. Даже ты, если будешь честен, должен признать это.
— Что признать? — сказал он нахмурившись.
— А то, что я сказала: что тебя это пугает.
— И пусть пугает, — сказал он и гордо выпрямился, чтобы яснее выразить свои чувства.
— Я ведь не говорю, что тебя пугают трудности или встреча с неведомым! Ты боишься, что твое представление о себе как о мужчине раскроется перед тобой с точки зрения тебе непонятной и неприемлемой. Ведь ты так убежденно видишь себя мужчиной, выполняющим мужскую работу, впитавшим мужское мироощущение. Вот что внушают нам школа и семья, такие, как наши.
— Никакого мужского мироощущения я в себе не замечаю, — сказал он. — Во многих отношениях я восстаю против того, чем мне велят стать, хотя прежде даже сам чувствовал, что так надо.
— Ну, вот пикник и кончился, — сказала она, вдруг испугавшись того, что сама же разбередила, и протянула ему свой маленький рюкзак, который он повесил на плечо. Сам он принес припасы в бумажной сумке: сложив сумку, она подсунула ее под клапан рюкзака. — Пойдем дальше? — добавила она. — Или вернемся?
— Пожалуй, пора возвращаться, — сказал он. Солнце уже спускалось к равнине, на склон позади них легли длинные черные тени.
Они неторопливо пошли, огибая подножие гребня. Когда тропка расширилась и можно было идти рядом, он взял ее за руку.
— Странно! У меня такое ощущение, что в каком-то смысле это встало между нами.
— Но что? — Она медленно раскачивала его руку.
— Все это. — Свободной рукой он обвел вокруг. — Даже лес в свое время был сферой мужской деятельности.
— Однако вовсе не обязательно, чтобы это омрачало будущее, — сказала она. — Должна же между мужчинами и женщинами возникнуть ясность. Ведь они могут стать равными друг другу и все-таки быть вместе, разве нет?
— Равными во всем? — сказал он. — Это что-то нереальное. Даже когда женщины получили свободу, используют они ее очень мало.
— Не надо больше об этом, — сказала она, словно с досады воткнула в него колючку, а теперь раскаивалась и была бы рада ее вытащить.
— Просто это выглядит нереальным, вот и все, — сказал он.
— А что реально? — сказала она вдруг и засмеялась. — Только то, к чему ты привык. Будет ли, например, то, что ты чувствуешь, — добавила она, — реальным для твоего отца? Будет ли то, что чувствует он, реальным для тебя? Новое поколение может стать иным — или ты это отрицаешь? Если детей воспитывать так, чтобы они не принимали ничего, кроме равенства, для них твоя позиция будет столь же далекой и чужой, как для нас, например, обычаи викингов или другие социальные традиции, которые не выдержали испытания временем.
Тропа стала шире. Она вела напрямик через лес. Из-за деревьев появился всадник — фигура в котелке и галифе. Когда лошадь проносилась мимо, всадник кивнул им.
— Мужчина или женщина? — спросил он.
— Женщина.
Она засмеялась, и они повернулись, глядя, как из-под копыт взлетают темные комья земли.
— Существуют другие формы неравенства, — сказал он.
— Через них все можно провести одну прямую. Они словно общая точка на графике, — сказала она. — Все линии неравенства пересекаются.
Тропа вывела их к озеру. Под деревом сидел человек с удочкой. Он поглядел на них, открыл стоявшую рядом корзинку и достал бутерброд. Поплавок неподвижно застыл на воде.
— Стэффорд — фаталист. Он верит, что в конечном счете все сведется к нулю, — сказал он. — Иногда я бываю склонен согласиться с ним. Нет-нет да и подумаешь: а какой смысл? Ну, борешься, а ради чего? Все-таки это высокомерная самоуверенность — считать, будто что-то можно изменить и будто лично ты можешь или должен стать орудием перемен. По временам мне невыносимо трудно смотреть даже на такой вот лес. Любая жизнь в определенном смысле делает смерть еще более ужасной.
— Или еще более упоительной, — сказала она. — Жалость к себе — это вернейший признак эгоцентризма, получившего чувствительный удар. Откуда вдруг у Стэффорда фаталистический взгляд на вещи? Что-то я не замечала в нем фатализма, когда его интересы оказывались под угрозой. Просто многое он получает слишком легко. А еще многое, — добавила она, — ему, наверное, вообще не дано.
— Мне всегда кажется, что ему приходилось вовсе не так легко. Хотя, конечно, это никакого значения не имеет, — сказал он, глядя, как она улыбается, и отпустил ее руку.
Они обогнули озеро и вышли на узкое шоссе. Немного подальше была автобусная остановка, и они примостились на низкой ограде.
Мимо медленно проехал мальчик на велосипеде.