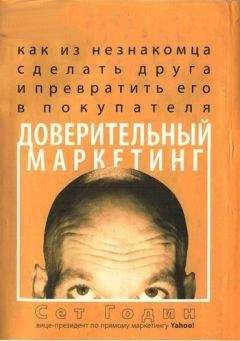Граната брякнулась на середину стола, и он с удовлетворением узрел окаменевшие в удивлении физиономии высокого воровского собрания. Именно этакие выражения окружавших его рож он и предполагал…
Затем на горле его запоздало перевилась петля, спинка стула откинулась назад под падающим к полу телом, и тут поверх, обжигая лицо, плеснуло оранжевое, застившее все пространство пламя и — упругая мощь взрыва, поглотившая сознание.
… — Вот что мне нравится, это когда гады сами себя мочат! — говорил один оперативный уполномоченный своему сотоварищу, выезжая на машине со двора Смотрящего, еще заполненного автомобилями «Скорой помощи», патрульного полицейского транспорта и автобусом криминалистической лаборатории. — Наши упраздненные управления по оргпреступности об этот криминал сначала зубы крошили, после — стравливать его стали всякими комбинациями, — что тоже труд немереный, а тут… сами друг друга, по личному почину… Срубили начисто себе голову. Чтоб так — всегда!
— Один-то — выжил, — донесся сокрушенный ответ.
— А, этот старик… — почесав затылок, ответил коллега. — Чудеса, точно. Пара осколков в мягких тканях, контужен, но даже глазами вращает… Может, Бог спас.
— Для каких-таких благих дел?
— А… пути Господни неисповедимы. Вот и явил, понимаешь, чудо… Граната, вроде, оборонительная, осколочная, на двести метров стальную икру мечет… Всех положила! А этот…
— Я когда на войне в Чечне был, — отозвался товарищ, сосредоточенно вглядывающийся в мир за ветровым стеклом, состоящий лишь из двух конусов света, озарявших полосу асфальта в чернильном мраке, — и похлестче несообразность видал… Один дурак на броне, приготовившись к стрельбе, с упора соскользнул, и полрожка из «калаша» моему приятелю Сереге Суржикову в упор в грудь засадил. А Серега — отменный боец, богатырь, поморгал вначале удивленно, подумал так… выматерился, и — с копыт. Я ему по морде: не уходи, выныривай! И — что думаешь? Пули — иглами прошли. Остался жив, хотя стал дырявый, как лейка. Но через год — только розовые пятаки по телу, и снова носорогу мог башку свернуть. Говорил, кстати, на том свете по каким-то коридорам бегал…
— Байка…
— Ага! Давай на спор! У Ваньки Храпова спроси из комендатуры, он с нами там был! А до того Суржик у министра в личной охране состоял, поскольку лось еще тот… Его потом, после ранения, по здоровью в канцелярское подразделение направили, на документы прикрытия, хотя, подозреваю, косил он ради теплого стула, ему там досрочное звание светило… Да и Чечня эта с кривыми подлянками приелась, тут ясно.
Они сидели в просторной беседке, увитой виноградной лозой и обсаженной высокими пирамидальными туями, на заднем дворе особняка, холодно поблескивающего на осеннем солнце стеклами стрельчатых окон. За беседкой простиралось пастбище с побитой заморозками травой, но на нем еще паслось стадо баранов, неторопливо бредущее вдоль пологого берега стылой темно-синей реки, текущей в тени другого берега — гористой гряды, поросшей багряным лесом.
— Не понимаю, — пристально глядя на стадо, произнес Серегин. — А что среди баранов делает козел? Вон тот, во главе личного состава…
Отец Федор, сидевший напротив с чашкой чая, которую держал на весу, усмехнулся:
— Бараны всегда идут за козлом. Он — скотина смышленая. Вожак, авторитет. Смотрящий, так сказать…
— Интересная аллегория…
— А если стадо вдруг разворачивается, впереди оказываются хромые, — с той же усмешкой продолжил Его Преподобие.
— Что касается меня, то я себя чувствую бараном без стада, — сказал Серегин. — Существующим в ожидании неясной финальной участи. И остается мне одно: рассчитывать на вашу честность. Не правда ли — наивно? Впрочем, я говорю со Святым Отцом… — Он болезненно прищурился. — Только в России святых людей больше, чем честных…
— Едкое замечание, — подтвердил Федор. — Однако замечу: грешников все-таки большинство. И святой им нужен. Более того: вне их его функция бессмысленна.
— Так как же с нашим договором? — поднял на него глаза Серегин.
— Все — в силе, — пожал плечами собеседник. — Сегодня ты увидишься с Аней. И если тебе повезет обрести ее, буду рад. Только — что дальше? Я не дам тебе увезти ее куда-либо. Она нашла себя здесь и только здесь ей и жить.
— Это — разговор с позиции силы…
— На том стоит весь мир. Каждый отстаивает свои интересы.
— А тут-то у вас какие интересы?..
— У тебя есть сын. В школе он все время получает высшие баллы за успехи в успеваемости. Преподаватели, оценивающие индекс его умственных способностей, открывают от удивления глаза. Он необычный ребенок, тонко чувствующий мальчик, и производит неизгладимое впечатление на всех, кто с ним сталкивается. Между прочим, он знает всех Святых. В отличие от тебя, балбеса, у которого если в памяти кто всплывет — так Никола Угодник…
— Почему? Пантелеймон-Целитель, Андрей Первозванный… Теперь… этот… Ну, который в Сарове жил…
— Ладно, эрудит! — отмахнулся от него Его Преподобие. — Но по-настоящему незаурядная часть личности твоего сына — редкостный талант: потрясающий, живой, почти сверхъестественный. Он видит насквозь не только каждого, он видит будущее… И это — не бред свихнувшегося старика. Это — критически проверенный факт. Он знал, что ты прибудешь сюда, знал о твоей миссии, более того — он с нетерпением и с любовью тебя ждет…
У Серегина возникло такое чувство, будто он получил удар под дых. Он пытался вздохнуть, пытался вновь ощутить внезапно онемевшие кончики пальцев, а когда поднял голову, то увидел направленный на него испытующий взгляд Его Преподобия.
— Было что-то такое… в нашу первую встречу… что заставило меня отчего-то поверить вам… — произнес он непослушным языком.
— И я не сомневаюсь, что этот мальчик станет хозяином нашей земли, — продолжил Отец Федор. — Он — наш оберег. Наш наследный принц. И мы не отдадим его. А потому все, что тебе остается — либо уйти в порочную даль своего дальнейшего существования, либо жить среди нас. Вернее, с нами.
— И чем же я буду тут заниматься? — спросил Серегин, справляясь с внезапной и непонятной оторопью. — У вас есть должность штатного оружейника? Или же дежурного киллера?
— Ты — не убийца, — сказал Федор. — И твой грех, как и грех твоих друзей, я перед Богом взял на себя. Да, иногда кому-то приходится стать карающим мечом вне цивильной судебной бодяги с ее прокурорами и адвокатами. Но у нас найдется много иных занятий, близких твоей натуре. Вопрос — захочешь ли ты учиться и работать? Ты, повторюсь, удобопреклонен к греху, но разве не задача — изжить в себе слабоволие? Ты стремился к блеску и затягивающей пустоте Запада, ты купался в мертвых водах его бездуховности и бессмыслия, и ты стал его частицей. Вернее, мутантом. Я вижу тебя. Тебя притягивает магнит прежних авантюр, но ты устал от этого притяжения, ты понимаешь его гибельность. Наркотик Запада… Он пронизал тебя, он покрыл коростой всю твою душу, но ты можешь очиститься от нее, как отрекшийся от зелья курильщик или алкоголик. Тем более, если тебе есть, ради чего освободиться от всей ветоши прошлого. В тебе еще есть энергия России, ты можешь дать ей возможность освободить себя из-под спуда наносного. Кроме того: занятно прожить жизнь, будучи прохвостом, но, ввиду наличия Господа Бога — небезопасно.
— У меня такое ощущение, — хмыкнул Олег, — что атеистов в вашей округе не отыщешь…
— Они меня не смущают, — спокойно ответил Его Преподобие. — В России все атеисты — православные. А каждый третий великий деятель русской культуры — еврей. И попробуй отобрать у еврея его русское достояние… Ему будет отказаться проще от себя, чем от него.
— Мне кажется, что вы — слуга Божий по призванию, — сказал Серегин с невольным смешком. — И, кстати, я в первый раз веду разговор со священником. Более того — мне нечем вам возразить.
— А я впервые говорю с заблудшим пасынком Америки. И чувствую сейчас ее суть, исходящую от тебя. Вот мы и столкнулись: две цивилизации. Две разные природы. Непримиримо чужие.
— В чем разница? — спросил Серегин.
— За нами, русскими, — века истории и культуры, — сказал Федор. — Когда у нас процветал в своем великолепии Большой театр, Штатов, как таковых еще не существовало. Их культура — тотальное заимствование. Их цель — перекройка мира сообразно интересам их бизнеса. Их религия — религия доллара, обязательная для всех. Отступивший от нее тут же оказывается на помойке, в кювете и — погибает. Америка — территория зарабатывания денег, тут же уплывающих у ее рабов сквозь пальцы. Там повсеместно декларируются главные ценности, такие, как труд, патриотизм, семья… Как и в Европе, сателлите Штатов. А что выходит на поверку? Торжество извращений, утрата национального под давлением негров и арабов, использующих идиотизм демократии. Американское же нивелирование личности во имя доллара — иллюзорной бумажки — вообще путь в ад. А если этот ад победит, что будет? Глобальная деградация Божьей идеи?