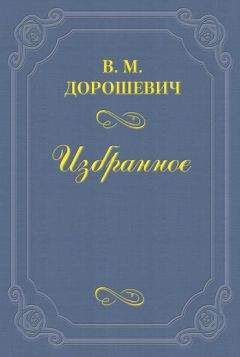В подвале было сумеречно, и Катя не сразу разгляделаего жалкую внешность.
Таких красивых девушек я еще не встречал.
Воробейчик пошел прямо на нее, протянул ей свою липкую, немытую руку и отрывисто представился:
— Родзянко.
Она вежливо ответила:
— Катя Голованова.
Я дотлевал от ужаса в углу на диване.
— Позвольте в краткой и беспристрастной диссертации, — Воробейчик начал свою лучшую бредовую речь, — изложить вам дух и направление современной идеализации. Пауперизм, происшедший…
— Соломон Нахманович, — прервал я его, — члены Учредительного собрания просят сделать перерыв на молитву.
Эта фраза была для него священной. Он отошел к восточной стене и, покрыв голову одной рукой, стал бормотать слова субботней молитвы.
Теперь я мог подняться с дивана и подойти к Кате. Меня разозлило, что она стала свидетельницей моего позора. Узнав, что ей нужны два студента согласно объявлению, я грубо сказал:
— Это вранье.
Она порылась в кармане своего пиджачка и вынула бумажку.
— Вот адрес. Кажется, я списала правильно.
— Адрес правильный, — сказал я. — А в объявлении — вранье. Я не студент.
— Но вы даете уроки? — вежливо спросила Катя.
— Даю.
— Мне нужен учитель физики. У меня задолженность по этому предмету. — Она протянула мне руку. — Меня зовут Катя. Можно, я сяду?
Она села, а я стоял перед ней в белых носках. Воробейчик молился на восток, то повышая голос до крика, то лопоча страстным шепотом.
— Он больной? — тихо спросила Катя.
— Немножко, — ответил я.
— Вы не волнуйтесь, — сказала Катя. — Мой отец рач. Я привыкла. Правда, папа бактериолог, но у нас дома бывают всякие доктора. Вам нравится медицина?
— Не очень.
— Пожалуйста, не отказывайте мне, — сказала Катя. — Я буду внимательной ученицей. Если вы мне откажете, мама найдет какого-нибудь старого кретина и я возненавижу физику навсегда.
— Где вы учитесь? — спросил я.
— На медицинском. На первом курсе.
Я не имел права брать этот урок. Задолженность Кати по физике намного превышала мои знания. Узнав, что это меня смущает, она упрямо мотнула головой.
— Глупости. Все равно вы знаете больше, чем я. И потом, есть же книги…
Она оставила мне свой адрес.
Назавтра я пошел к ней в первый раз.
Катя жила в здании Харьковского медицинского общества. Подымаясь в ее квартиру, я затерялся на широкой парадной лестнице. Толстые стенные зеркала повторяли мое изображение: справа и слева от меня, вровень со мной, нахально подымался по мраморным ступеням худой, лопоухий юноша, в латаной толстовке до колен. Мне боязно было смотреть на него. Но я был горд тем, что его занесло на эту лестницу.
Служебный день в здании закончился, просторные гулкие коридоры запутали меня. Резкий тошнотворный запах бил в нос: здесь готовили сыворотку для всей Украины. Из-за высоких, как ворота, дверей доносились порой странные пронзительные крики и писк; это кричали обезьяны и жаловались на свою судьбу морские свинки.
Я набрел наконец на дверь с медной дощечкой: «Профессор Федор Иванович Голованов».
Катина мать встретила меня нелюбезно — я не мог ей понравиться. И не потому, что на мне были обноски, — я вопиюще не соответствовал вкусам жены петербургского профессора. Страдая оттого, что Федор Иванович ушел из Военно-медицинской академии и принял пост директора харьковского санбакинститута, Анна Гавриловна чувствовала себя в нашем городе униженной.
Ей не нравилось все: и речушка Лoпань вместо державной Невы, и хохлацкое произношение, и щербатый булыжник вместо торцов Невского проспекта, и ужасающая купецкая архитектура взамен Растрелли, Росси и Воронихина. Вдобавок ко всему этому — еврейский мальчишка-репетитор, которого привела в дом ее сумасбродная дочь.
Анна Гавриловна не стала со мной церемониться. Она тотчас дала мне понять, что я — ничтожество. Выяснилось под ее леденящим взглядом, что я не умею стоять, сидеть и передвигаться по комнате. Я громко пил чай. Я держал за столом вилку, как убийца. Я делал ударения, от которых Анну Гавриловну пошатывало. К чести ее надо сказать, она не скрывала своего отвращения ко мне. Она даже долго не могла выговорить мое длинное имя — Боря и вместо этого называла меня коротко — молодой человек.
Странно — я не обижался на нее. Недоброжелательство, выраженное в такой открытой форме, забавляло меня. Злилась — Катя. Когда Анна Гавриловна особенно цепко впивалась в мой загривок, Катя кричала:
— Перестань! Сию же минуту перестань!
Наши занятия по физике шли успешно. Институтская программа нередко ставила меня в тупик, но вдвоем мы легко одолевали мое невежество. Деньги, которые Анна Гавриловна, с оскорбительной церемонностью, вручала мне за урок, мы с Катей прогуливали. Мне было неприятно получать плату за счастье общения с Катей, я хотел отказаться от денег, но она возмутилась:
— Вы сошли с ума! Это ваша работа. Почему вы должны делать ее бесплатно?
Не помню, когда я впервые объяснился ей в любви. За пятнадцать лет я делал это столько раз, что все мои объяснения слились в одно.
Это было и на холмах Технологического сада — весь город темнел внизу в сумерках, и, когда я произнес свои слова, вспыхнул у наших ног Харьков, словно я подпалил его силой своего чувства. Это было и на площади Розы Люксембург, и на улице Карла Либкнехта, в вонючих горбатых переулках, в подворотнях и парадных подъездах, в битком набитых трамваях, на подножках пригородных поездов. Это было в зиму, в осень, летом, весной. В солнце, в мороз, в слякоть. Это было и в тот день, когда она вышла замуж за Болеслава Тышкевича — старшего оперуполномоченного ОГПУ. И в тот день, когда она с ним разошлась. И в ту минуту, когда я узнал, что у нее второй муж. И тогда, когда я женился. И всегда, когда мы лежали с ней в постели.
Из всех человеческих чувств, пожалуй, труднее всего анализировать любовь. Разложенная на свои мельчайшие частицы, она мертвеет. Расчлененная, она не складывается воедино.
Мне потому и трудно рассказать о Кате, что свойства ее характера не дадут представления о том чуде, которое она собой являла для меня. Это не значит, что я ее сочинял. Я даже не был пристрастен к ней: когда мне указывали на ее пороки, я их не отрицал. Я только упрямо твердил:
— Все равно, вы ее не знаете.
Вероятно, я имел в виду, что любимая женщина состоит не только из черт своего характера. Между этими чертами есть какие-то неисследованные миры, видимые только влюбленному.
Так я и жил, словно идя по бесконечно длинному тоннелю, в конце которого светилась Катя. И когда эта жизнь стала мне невмоготу, я переехал в Ленинград. Шел тысяча девятьсот двадцать девятый год от рождества Христова и двадцатый год со дня моего рождения.
Мама уложила в мой чемодан две простыни, три смены белья, пару брюк и одну стираную толстовку.
Накануне своего отъезда я пришел к Кате. Она не знала, что я уезжаю. Это известие я берег до последней секунды, нисколько не надеясь, что оно хоть как-нибудь изменит мою судьбу. Да и на что я мог рассчитывать? Мне только хотелось увидеть ужас в Катиных глазах, когда она услышит, что завтра меня здесь не будет.
Мы вышли из ее дома и пошли, как всегда, бесцельно, не разбирая дороги.
Через тридцать лет я приехал в Харьков без всякого дела. Обычно свидание со своей юностью трогательно. Дома и дворы кажутся меньше. Все видится иначе, нежели прежде. Со мной этого не произошло.
Бродя по городу, я пытался вызвать, как духов, давние воспоминания. Но улицы и дома были немы со мной. Даже запахи и звуки — эти стойкие вехи человеческой памяти — утратили свою мощь.
Я ходил по рядовому областному центру — столица моей биографии исчезла. Быть может, это объясняется тем, что меня к тому времени завалило обломками. Мне было не выбраться из-под них навстречу прошлому. Оказалось, что я не повзрослел, не вырос, не постарел — я был иной. Моя юность оказалась некомплектной, она принадлежала кому-то другому. Мне кажется, что многие нынешние старики испытывают то же чувство. Их жизнь так же некомплектна. Брюки не подходят к пиджаку — они разного цвета и фасона.
Мы ходили с Катей допоздна, и только прощаясь, у порога ее дома, я сказал:
— Завтра я уезжаю в Ленинград.
— Зачем? — спросила Катя.
— Да просто так.
— А когда вы вернетесь?
— Никогда.
— Не говорите чепухи, — сказала Катя. — Вы не можете уехать навсегда.
— Тем не менее, — сказал я.
— Вы не смеете бросать меня. Я без вас пропаду.
— Вот уж нет, — сказал я. — Нисколько не пропадете.
— А еще врали, что любите меня.
— Ни капельки.
— Что ни капельки?
— Ни капельки я не врал.
Она заплакала.
— Если вы завтра уедете, я сделаю что-нибудь, ужасное.
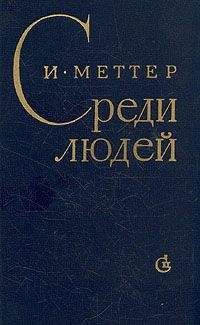

![Дмитрий Биленкин - Шел человек по грибы [А шел человек по грибы]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)