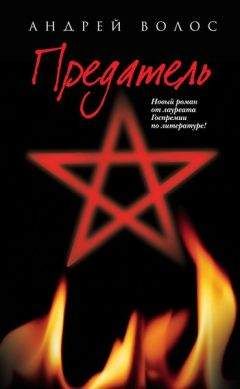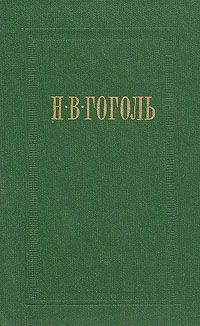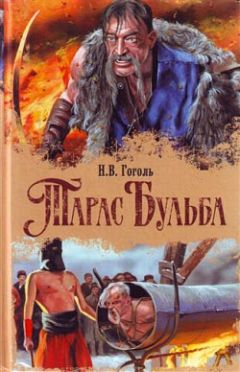Столь же демонстративно, как невозмутимость, Шелепа выказывал свою немногословность. Бронников пытался у него вызнать — куда едем, где встретимся, что к чему, вообще говоря, не в подворотне же пить, черт возьми!
— Не в подворотне, — отвечал Шелепа. — Это верно.
Но от ответов уклонялся, гундосил под нос какую-то итальянскую песенку из наисладчайших.
— Вот чудило, — беззлобно ругал его Бронников, — что ты из себя шведскую разведчицу корчишь! Я же знаю — все твои кореша пьянчуги, никаких тайн в отношении пьянчуг быть не может. Они за стакан сами все расскажут. Если кто спросит, конечно.
Шелепа делал нос набок, хмыкал, холодно посматривал то на светофор, то на мордатого постового, хозяйски прохаживающегося по загазованному перекрестку, потом втыкал передачу и снова начинал подрезать при обгоне — в общем, занимался тем, чем привык заниматься, а дела не говорил.
Подкатили к большому дому в одном из переулков центра.
— Сиди, — сказал Шелепа, — сейчас мастеров приведу. Камнерезов-то…
Помахивая ключами, он пошел к подъезду, и Бронников, глядя в спину, в куцую куртчонку на широких, мужиковато костистых плечах, неожиданно успокоился и понял, что все будет в порядке, без дураков.
День был серенький, половинчатый какой-то; выглянуло солнце, помаячило между двумя тучами, пустило по асфальту несколько неуверенных зыбких теней, потом они растеклись и пропали, а вместе с ними и солнце; поблескивавшая перед мраморным крыльцом лужа потемнела, и мрамор стал серым, словно плохая бумага. Невразумительная вывеска одним-единственным словом, и то не напрямик, намекала на то, что учреждение имеет отношение к военному ведомству.
Обхватив руками сумку, Бронников смотрел перед собой в стекло. Стекло было новехонькое, ничуть не поцарапанное. Какая машина, такое и стекло. Шелепа менял машины не реже чем раз в два года.
Конечно, если этак вот, со стороны, беспристрастно то есть, посмотреть — ну жулик и жулик, другого слова не найти. Чем он занимался сейчас — Бронников не знал, однако был уверен, что занятие это если не за границей, отделяющей явления подзаконные от противозаконных, то на самой черте. Приторговывал, сводил, наваривал… Как-то обмолвился, что содержит видеотеку: плати червонец, бери подпольную кассету, смотри. В общем, экзотика: Бронников и видеомагнитофона-то в глаза отродясь не видел, да и жизни такой себе не пожелал бы — за срамные фильмы червонцы сшибать. А Шелепе вроде ничего, нравилось…
В студенческие годы все было по-другому, ничем таким и не пахло. Все полагали, что Шелепа при распределении останется на кафедре. Стажерство, аспирантура… научная деятельность. Кому же еще, если не Шелепе, — немного безалаберный, зато одаренный. Даже талантливый. И отец в министерстве. С третьего курса Шелепа, имея в виду именно распределение, стал активным комсомольцем. Ничего плохого он при этом в общем-то не делал — ну, мыкался по коридорам института с папочкой под мышкой и значком на груди, вечно субботники организовывал — на то и оргсектор. Бронников любил его не за это.
Казалось, что в его судьбе не приходится сомневаться, и вдруг на распределении стажерское место ему не досталось, вместо него неожиданно взяли серятину Погорелова. Тогда Бронников не задумывался — почему. А теперь уж и неинтересно было. Наверняка имелись причины — настолько веские, что даже министерский отец Шелепы их не перевешивал.
После этой неудачи какие-то шестерни в его судьбе навсегда вышли из зацепления: половина колес остановилась, зато остальные завертелись бешено. Теперь уже трудно было представить его другим…
Вот Шелепа снова появился на крыльце, постоял, переминаясь, лениво поглядел в небо. Вытряс сигарету из пачки, неторопливо закурил, так же неторопливо двинулся к машине. На сухих, длинных ногах болтались голубые портки. Нервничавший Бронников все утро по этому поводу ехидничал. На каждой штанине блестела стальная пряжечка. «Старый ты ушкуйник, — говорил Бронников, беспокойно ерзая на сиденье, — ну что ты на себя напялил… Тебе смертное пора готовить, а ты все пряжечки…»
— Сейчас явятся кузнецы, — проскрипел Шелепа, открыв дверцу. — Вылезай, засидишься.
— Не хочу, — ответил Бронников. — В ногах правды нет.
Шелепа хмыкнул, дверцу закрыл. Сделал два шага вперед, два назад, покрутил головой. Покашлял. Лениво двинулся, снова раскрыл дверцу и сказал:
— Ты полтинник-то сюда давай. Я сам вручу. Ювелирам-то…
— То кузнецам, то ювелирам, — буркнул Бронников, суя ему конверт. — Ни черта не поймешь…
— Мастеровые, — пояснил Шелепа. — Все могут. На все руки.
Первый мастеровой оказался в чине капитана, второй был в штатском и, надо думать, помельче — глядел в землю, шел на шаг сзади. Когда они, дружно сбежав по ступеням, подошли к машине (причем капитан дважды успел посмотреть на часы, и всякий раз лицо его делалось озабоченным), штатский открыл дверцу и пропустил капитана вперед. Раскачав машину, забрались на заднее сиденье.
— Зеленый, — бодро сказал капитан таким тоном, словно был помощником машиниста. — Поехали.
Шелепа повернул ключ, тронул машину, потом ткнул пальцем в Бронникова и сказал:
— Это Лексеич.
Бронников машинально кивнул.
— Можно просто Мишей, — улыбнулся широколицый капитан. — На работе надоело — Зеленый да Зеленый…
Штатский неожиданно мрачно назвался Григорием Зиновьевичем. Зеленый при его словах рассмеялся, ткнул кулаком в плечо и сказал:
— Да брось ты, Гога!
Григорий Зиновьевич тона этого не принял и вообще держался надменно. Он отвернулся к окну и смотрел в него с необъяснимым упорством. Шелепа вырулил на проспект.
— Ты не гони, — неожиданно прорезался в Григории Зиновьевиче сдавленный голос. — У меня голова кружится.
Должно быть, его мутило.
— А от водки у тебя голова не кружится? — поинтересовался Шелепа.
— Нет, — коротко ответил тот.
Было похоже, что говорил правду.
— По набережным давай, — сказал Зеленый. — Так короче.
Шелепа хмыкнул и повел плечом.
* * *
Пили быстро и беспорядочно.
Комната оказалась вполне нежилой и канцелярской. На двух ее стенах с многочисленных плакатов полыхал огонь, и бравые пожарники, навек застыв в неловких позах, наступали на него со всех четырех сторон. Хозяин, глухоголосый пожилой человек с майорскими звездами на дряблых погонах, часто подходил к дверям, слушал, что происходит в коридоре, потом отмахивал капитану, тот начинал разливать в ящике стола. Китель на майоре был засален и помят, выглядел по-домашнему и, если бы не десяток орденских планок, сошел бы за тужурку пенсионера. После третьего тоста все предосторожности как-то сами собой сошли на нет. День, глубоко заступив за середину, клонился к вечеру, за окном тянуло в форточку прохладой, и ревела сиреневая от надвигающегося ливня, дымная Москва…
Бронников сначала нервничал, все ждал, когда же начнут «отмазывать» Артема, когда приступят к делу, ради которого, собственно говоря, и собрались; и как это будет выглядеть? Но прошел час, покатился другой, в голове шумело, капитан говорил о ловле голавля на хлебный мякиш, Григорий Зиновьевич светлел час от часу, мягчел, посасывал яблочко, вот и к сыру потянулся — его отпускало помаленьку. Потом он сел на телефон и принялся названивать куда-то, ведя при этом разговоры Бронникову малопонятные: договаривался насчет снятия поста на каком-то шоссе, потом кричал на некоего Кольку, обзывая его черными словами, потом плаксиво жаловался невесть кому на несовершенство управленческого механизма; и снова всплывали пост и шоссе. В конце концов, когда Григорий Зиновьевич сделал последний звонок, Бронников кое-как увязал все эти обрывки: речь шла о том, чтобы отогнать на дачу трейлер ворованного бруса; грузовик не должен быть остановлен ни одним постом ГАИ; эту-то нетривиальную задачу Гога и решал и в конце концов, кажется, решил — отошел от телефона довольный, сел и посягнул на колбасу. Когда он раскрывал рот, чтобы куснуть хлеба, верхняя губа морщилась и задиралась, обнажая два бобриных зуба. Нос тоже шел мелкими морщинками, что еще больше усиливало в такие моменты его сходство с каким-то довольно хищным представителем мира животных — с крысой или шакалом. Впрочем, с закрытым ртом он выглядел совершенно по-человечески. Самым симпатичным был, конечно же, майор в поношенном кителе; его звали Иваном Захаровичем, и было видно, что он просто не дурак выпить, вот и все его грехи перед Родиной; смотрел он на Бронникова ласково, смущенно — с каждой дозой все ласковей и смущенней, словно стыдясь перед незнакомым человеком того, что происходит. Воспользовавшись тем, что капитан Зеленый и Григорий Зиновьевич затеяли что-то вроде воровского толковища, причем Шелепа играл у них роль третейского судьи (речь шла о каком-то Сером, которого Гога обещал пристроить, да не пристроил; куда пристроить, Бронников так и не понял: сдавалось ему, это могло быть что угодно, в диапазоне от автошколы до тюрьмы), воспользовавшись шумом, который они подняли, майор подсел к нему поближе, присунулся, навалившись грудью на стол, и завел разговор о предметах неожиданно простых и понятных — о детях, о пенсии, о садовом участке. Вокруг него, казалось, витал клок паровозного дыма, и так и подмывало отдаться железнодорожной доверительности, вагонному откровению. Глядя в его немного выкаченные глаза, белки которых были традиционно для майоров пронизаны координатной сеткой кровеносных сосудов, Бронников тоже рассказал про Лешку: дескать совсем взрослый мальчик, третий класс, не шутка…