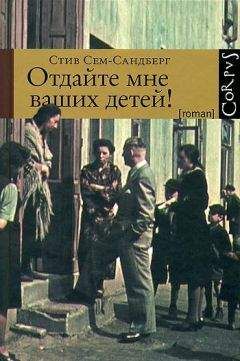— Вот так вот — взять и отказаться!
За летом 1943 года, отмеченным суповой забастовкой у Избицкого, последовала долгая тяжелая зима. В Марысине и на Радогоще уже никого не беспокоили условия труда: все надрывались, таская тяжести и выполняя приказы надсмотрщиков. Но вот снова пришла весна, все еще военная весна. И, словно по ту сторону колючей проволоки какой-то дьявольский разум нарочно выдумывал все с одной-единственной целью — истребить жителей гетто, на сортировочную вдруг начали прибывать продукты.
Четыре года гетто взывало о картошке; не о насквозь прогнившей, осклизлой мороженой картошке, которая появлялась иногда, а о картошке настоящей. Пусть бы она была с пятнами гнили — но крепкой, со следами настоящей земли на шкурке, чтобы можно было хотя бы представить себе плотную, рыхлую, сыроватую плодородную землю, из которой эту картошку выкопали.
Четыре года такой картошки не было и в помине. Но теперь ее привезли. Сначала была капуста, не меньше тонны; каждый вагон набит бледно-зелеными шарами, напоминавшими «детские головы, которым хочется надрать уши». А потом — картошка, настоящая картошка; так много, что можно снова наполнить лари склада на Ягеллонской. И горы других овощей: шпината, фасоли, репы.
Крик с разгрузочного перрона:
— А немцы опять нашли лук!
И консервы из свеклы. Необъяснимое количество консервированной свеклы.
Среди грузчиков вспыхивали ссоры — кому первому везти груз на склады. Ведь только при разгрузке на складе, вдали от бдительных стальных касок, можно было «снять пенки».
На раздаче супа царил осторожный, но обоснованный оптимизм, и надоевшие шутки стали более разнообразными:
— Посмотрим, посмотрим, проедет ли сегодня суп мимо капусты.
— Может, капуста встретится ему на обратном пути?
— Если только по ошибке.
— Это капуста презеса, поймешь по вкусу: гнилье гнильем, зато пердишь золотом — благородный товар.
Но капусты в супе не было. Следов картошки — тоже. Лишь та же тепловатая, вечно прокисшая крахмалистая жижа. Янкель стоял позади Адама, а за ним вытянулась бесконечная очередь к телегам с супом. То тут, то там высовывалась исполненная оптимизма голова, чтобы по реакции стоящих впереди определить, каков сегодня суп на вкус. Тогда Янкель обернулся, поднял миску над головой и изо всех сил швырнул ее на землю:
— Не буду есть такое дерьмо!
Забастовка: все как зачарованные смотрели на веснушчатого юношу с волосами-паклей. Глаза безумные, но в глубине их что-то светится. Что? Упрямство? Надежда? Зонненфарб немедленно выполз из своего голубого особняка. За ним следовали, ясное дело, Шальц и Хенце.
— Здесь кто-то отказался от супа?
Зонненфарбу не нужно было дожидаться ответа, чтобы определить виновного. Миска Янкеля все еще лежала там, куда он ее бросил, — у него под ногами.
Подобно метателю молота, Зонненфарб развернулся всем своим чудовищным телом, выбросил руку вперед, и Янкель рухнул как подрубленный. Шальц направил ему в голову дуло винтовки:
— Sieh zu, das du deinen Arsch hochkriegst und deine Suppe verputzt sonst mache ich dir Beine!
Если бы Адам в этот момент мог вдвинуть свое худое тело между дулом ружья и беззащитной Янкелевой головой, на которой кожа подергивалась, как пленка на воде, он бы сделал это. Шальц не торопясь загнал патрон в ствол. От напряжения у Янкеля обнажились нижние зубы. Но выстрел так и не раздался. Все стоявшие в очереди вдруг начали бросать свои котелки и миски вокруг упавшего. Гром от сотен мисок и котелков, одновременно ударившихся о землю, оглушал так, что даже Шальц потерял самообладание и обернулся, вскинув дуло винтовки.
В его глазах была паника.
— Keine Mittagspause mehr, keine Mittagspause! — взвыл он, потрясая винтовкой. — Los zur Arbeit.
Люди вернулись к работе, однако они не слишком спешили. На товарную станцию прибыл новый поезд, но, несмотря на злобные окрики немцев, рабочие двигались еле-еле, а через пару часов Зонненфарб позвонил в колокол, возвещая о конце смены.
Уже тогда поползли слухи, что суповая забастовка разразилась и в самом гетто. Люди прекратили работу на I и II складах металла на Лагевницкой и в седельной мастерской на Якуба, 8.
И вода в гетто продолжала подниматься.
Еженощно талая вода выступала из мертвой земли.
Адам берег инструменты, которые случай вложил ему в руки. Теперь у него были нож, долото, киянка и молоток; он ходил, спрятав их за пояс штанов, — так же, как когда-то носил лекарства и газеты Фельдману. Он ни у кого не вызвал подозрений, потому что после пребывания в Шахте и так передвигался враскорячку. Дефективный, один из тех негодных к работе, которых по непонятной причине пощадили, не то выживший, не то живой мертвец? Однажды он решил, — что нахромался достаточно, и отделился от колонны, маршировавшей назад в гетто.
— Ты куда? — крикнул ему вслед Янкель. (Он все замечал, этот Янкель.) — Тебя пристрелят, если ты туда пойдешь!
Но Адам все-таки пошел.
Вышка у ворот Радогоща стояла до середины в талых сугробах, и часовой высматривал нарушителей поверх своего отражения в вольно разлившейся воде. Пограничное заграждение, отделяющее гетто от города, больше не было заграждением — просто кусок проволоки, натянутый над ничем.
По ночам иногда зажигались прожекторы-искатели: ковш белого света поднимался от земли к пропитанным водой небесам, пока одинокий часовой на вышке косил из автомата все, что шевелилось поодаль внизу: тра-атта-тата-татта-ттааа!
Говорили, что это евреи под покровом ночи предпринимают попытки проплыть над проволокой там, где она оказывалась под водой. На самом деле часовые палили по крысам. Иные весельчаки караульные говорили: плохи дела, даже лицманштадтские крысы хотят удрать от «большевиков».
В свете, отражавшемся от воды и неба, Марысин больше всего походил на стариковское лицо, чьи черты то проступали резче, то снова разглаживались. Телеграфные столбы на Ягеллонской и Загайниковой отражались в зеркале воды, словно спицы гигантского колеса. Между этими спицами, на гонимых порывами ветра пластах воды дрейфовали железные крыши домов и мастерских.
Остатки Зеленого дома довольно сносно держались на откосе, так же как держалось кладбище за своими стенами и — чуть ниже — садовое хозяйство Юзефа Фельдмана, с сараем, где хранились инструменты, и теплицами.
Возле предприятия Прашкера, на перекрестке между Окоповой и Марысинской, лежала головой Медузы старая ива, и длинные зеленоватые ветви колыхались на поверхности зеркально-светлой воды. Если посмотреть на гетто сверху, то можно было бы прочертить пунктир от хрящеватой ивы к выгребным ямам, куда золотари выливали свои бочки.
Все, что было между ивой и ямами, растворялось в воде.
Сначала Адам думал, что вонь исходит от сточных канав, но запах отличался от доносящегося оттуда кисловатого запаха селитры — он был гуще и какой-то затхлый, удушливый.
Адам наконец добрался до твердой земли. Теперь он стоял там, где некогда была «мастерская». В конце длинного ряда приземистых деревянных строений со стойлами и пристройками помещалось более просторное, свободно стоящее, служившее когда-то тележным сараем. Ворота этого выцветшего под солнцем и дождями деревянного строения были отперты и хлопали на ветру.
Подходя ближе, Адам подумал: хорошо бы смазать петли.
И вдруг понял: громкий резкий звук исходит не от петель. И вонь тоже. Зловоние и повизгивание исходили от крыс.
За несколько лет Лайб успел постареть. Издалека его можно было принять за польского крестьянина — из тех, что целый день проводят в поле, пока не загорят до черноты. Но у Лайба кожа потемнела не от солнца. Кое-где она казалась отекшей, словно изнутри пропиталась жидкостью, готовой вот-вот выйти наружу. Под светло-серыми глазами, раньше широко открытыми, набрякли страшные мешки, а темя было красно-блестящим и влажным, как точильный камень.
Лайб сидел за длинным столом, который он выдвинул на середину сарая, а на стенах, у самого пола и вдоль стен в клетках бегали крысы; они с яростным писком царапали прутья когтями и грызли их острыми зубами.
«Трейф!» — коротко высказался Лайб; непонятно было, имеет он в виду крыс или Адама, который остановился на пороге, ошеломленный сбивающим с ног зловонием.
В мутном буро-сером полусвете он увидел, как Лайб поднимается из-за стола и натягивает большую черную перчатку. Другой рукой Лайб схватил деревянную палку с крючком-когтем на конце и поддел им задвижку на дверце одной из клеток. Сидевшая в клетке крыса инстинктивно вцепилась в обращенный к ней конец палки. Лайб молниеносно схватил животное другой, одетой в перчатку рукой; сжал крысиное тельце и одним резким движением ножа вспорол крысе брюхо.