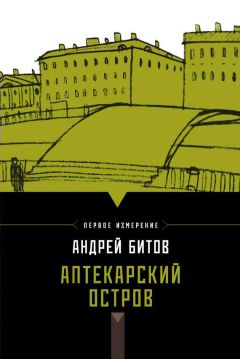И реанимированный было пейзаж вновь умер. Кстати стемнело, чтобы не видеть его. Чтобы не думать больше, как ты его не видишь. А думать о том, с чем же в себе никак не может он смириться, Монахов, чему удивляется. К какой такой давней уже перемене никак не может привыкнуть? и даже допустить не хочет. И эти — были стертые, кем-то, не то им же, подуманные… Возраст! Неужто он так простирает над ним свое крыло? Может, Монахов никак не может свыкнуться, что ему не двадцать пять. А почему, собственно? Он не чувствует ни боли, ни одышки, он — выглядит, он не постарел. Никто из нас не заподозрит, насколько долго, даже усвоив современные взгляды, подвержены мы давно уцененной и забытой, еще школьной идеологии. Откуда, например, убеждение, что старение есть явление как бы чисто физическое? Возраст! — думал Монахов. Вот великий закон над человеком!.. Монахов не мог допустить его действие на себя, в то время как действие его на окружающих было объективно. Распространение этого закона на себя означало, что жизнь, собственно, прожита и никак не впереди. Тогда он ее прожил то ли не так, то ли мимо, то ли не в том смысле. Перспектива, всегда открытая, вдруг захлопывалась. Господи! не готов… С другой стороны, не хуже, чем у других, это у него было: мать жива, дети здоровы, жены несчастны, но тоже здоровы, и все у них есть, а когда они были бы счастливы, интересно знать! Монахов привычно вспылил. Если причина его неважного самоощущения лишь в том, что он им не дал счастья по их представлениям о себе — то это вздор, этим — пренебречь. И хотя все равно не пренебрегалось, что-то оставалось на совести досадное, навязанное ими, но это, ясно, не главное. В том-то и дело, что Монахов именно сам себя неважно ощущал, а не с помощью других, и — вот ведь! — тьфу-тьфу — даже здоровье было. Что же это за боль в виде ее отсутствия! несносно. Неужели все кончено?.. Что — кончено? Что — все?! Неужто так и не ответить себе ни на один вопрос… Вопросы размножаются простым делением. Откуда он взял, откуда они все взяли — жены, дети, — что она все время и каждую секунду должна происходить, жизнь? И еще не просто сама по себе, а по нашим о ней представлениям! Хулить общественную систему — и во всем настолько походить на нее. Нет, она наша, эта система, и твоя тоже. Давай, давай! — немудрено было давно уже ее всю выгрести, жизнь. Чего же теперь бесчувствию дивиться? Как там наша Светочка поживает?..
Обиделась. Не смотрит. Ну и слава богу. А жизнь, товарищ Монахов, придется наново начинать. Ту уже не переживешь — хвостик хоть ее распрями. Чтобы не было мучительно больно… Ой, больно! Да дался ты кому со своей виной и долгом! Что ты лезешь из кожи к удивлению и неуважению своих близких? Кому ты нужен, со своими смирениями и жертвами! Ты сам им нужен, а где ты сам? В какую щель… не видать… Что ты прешь эту жизнь, как рояль на седьмой этаж! Не-ет, хватит.
Господи! может ли прийти в голову мысль, хоть одна, которой я еще не думал. Я ими всеми уже думал…
Светочка спала, расстегнув рот. Монахов представил, что это она уже под утро… Чужая подушка… бедненькие тряпочки кое-как разбросаны по полу… птицы заверещали, рассветает окно… и она, после всей этой бури, плотно спит, вот и рот нараспашку… Монахов покосился с неприязнью и крадучись, стараясь не разбудить, соскользнул с кровати, босой по чужому полу, в руке туфли, где, черт, второй носок?.. Монахов хотел выйти, но пол под ним шатало… Поезд грохотал в ночи, все разухабистей болтаясь по стрелкам, словно не разбирая уже пути… Нет, хорошо, что не затеял знакомства… Монахов и сам дремал, некоторое время стараясь не забывать про рот, учитывая чужой опыт… пока не уснул, со всей непосредственностью сна.
…Ничего страшного. Вот предмет, похожий на другой предмет… а вот два похожих человека… И этот похожий предмет служит своему назначению, как служит своему назначению предмет, на него похожий. И этот человек, похожий на того, живет своей жизнью, как и человек, на него похожий, живет своей. Что такого?
Сходство или похожесть никогда особо не занимали Монахова, и уж во всяком случае ничего пугающего в подобном явлении он до сих пор не обнаруживал. Эта область легко исчерпывалась проходным рассуждением о том, что при бесчисленном многообразии сочетаний элементов сами элементы-то постоянны, и потому, по законам больших чисел, вполне возможен случай даже и значительного сходства в соединении элементов у каких-либо предметов, людей, явлений, совсем не родственных и весьма отдаленных друг от друга. «Отдаленное сходство», в таком случае, скорее сходство двух далеких объектов, чем просто незначительное подобие. А при бесконечном ряде возможен и случай идентичности — ну что ж, курьез, игра природы… как та же игра природы, что волей того же случая мы можем стать свидетелями подобного курьеза. Свидетелями, и только. Ответственности не несем. Ни в малой степени не должно омрачить нашу душу отдаленное сходство. Скорее можно утверждать, что всякого рода сходство или похожесть должны радовать любого нормального, не задумывающегося над пустотою человека. («Мне бы ваши заботы…» — разумный довод!) Радуется же всякому сходству ребенок как первому методу познания, и нежные усики первых соображений протягиваются из неизмеренного еще «я» к пока еще измеримому миру… может радоваться и взрослый, видя в явлениях сходства некое свое приобщение к окружающему миру, сродство и даже сращенность с ним.
Теперь можно употребить удивительное слово «вдруг».
И вдруг Монахов испугался. Так потрясло его это вагонное сходство… Это и есть оправдание той ложноножки, которую выдвинул с самого начала наш рассказ. Хотя в широком смысле, конечно, не «вдруг». К этому «вдруг» его долго и терпеливо вела непостижимая жизнь. Будто из тугого и, казалось, толстенького клубка отмотал он, начиная с рождения, нить настолько длинную, что уже клубка-то и не различал: сколько там? не вся ли нить?.. Так вот, ему вдруг показалось, что она как-то опасно натянулась: заело или кончается? Вопрос тревожный, и задать его некому. Мы не придаем случайной встрече в вагоне того же многозначения, как Монахов; может, он и сходство-то преувеличил… но, между прочим, не нам судить — это его встреча, не наша. Он принял ее за точку отсчета, пусть как угодно произвольно. Точка эта означала, что жизнь его описала круг. Теоретическая спираль его не утешала. Ему некуда было ее вставить. Под вопросом для него было лишь количество описанных им кругов — не третий ли заход? Третий, малоутешительный…
Во всяком случае, именно в этой точке своей смелькавшейся уже в полосу жизни приостанавливается Монахов, чтобы оглядеться. Это и есть оправдание той ложноножки, которую выдвинул с самого начала наш рассказ, который мы назовем то ли «Тени», то ли «Отрывок», то ли «Венок», то ли, как мы смело написали вначале, — «Вкус», то ли «Отдаленное сходство». Перед тем как он выдвинет следующую — возможно, опять ложную…
* * *
Он приехал, и они объяснились.
Новую жизнь, однако, Монахову удалось начать не сразу.
Прошло время, прежде чем странность и радикальность подобного намерения поутряслась, пообсела в сознании ближних (жены) и приняла законный и привычный вид: Монахов берет очередной отпуск и, возможно, еще месяц за свой счет, но проводит их не с семьею, а снимает за городом комнату, где ему наконец никто не мешает обобщить его опыт. (Якобы очередная монография «Висячие сетчатые конструкции»…) Но вряд ли все это можно было теперь назвать побегом или «вита нуова». Толстой… оскалившись по-волчьи, сказал себе Монахов. Однако был он к себе справедлив: не будь он непреклонен в своем решении, не убедись жена в неизбежности, не привыкни начальство к идее… вряд ли бы он жил теперь на даче, вырванный из «заботы суетного света», с перспективой жить так два месяца… Достижение — практически невероятное!
Он говорил: «Я живу напротив могилы Пастернака», — и странно звучало это «живу».
Он произносил эту фразу впервые и не был уверен, что не повторяет ее в сотый раз. Кратность преследовала его. Кратность мыслей, слов, встреч. Все это нуждалось в сокращении, как кратная дробь. Ему пора было уехать. Одиночество было ему необходимо. Но до тех пор, пока его надо было добиться, это была еще цель. Он внес вещи в комнату, разложил на столе чистую бумагу и словари, вскипятил чай… И за кратким детским удовольствием самостоятельного устройства с тоскою понял, что никакого одиночества нет.
Хозяйка… Но не в хозяйке дело. Это однодневная лихорадка, ею не сложно переболеть. Как спускать воду, как зажигать газ… это пройдет. Что-то другое не устраивало Монахова в этом прославленном месте. Непонятно что. То ли оно оказалось не таким, как он ожидал… но это тоже явление сверхобычное: место назначения всегда такое — не такое, как представлял, тем и замечательно. То ли вообще его не было… Монахов взглядывал в окно, и ему становилось пусто. Не то чтобы его вообще не было: сосны, кустики, дорожки, сараюшки — всего этого было в достаточном количестве. Некоторая частность, неоформленность пейзажа, общая мусорность — так это и есть специфика именно дачного места, за пейзажем ездят подальше, уже в деревню. Так ведь эту-то сутолоку и сорность тоже можно любить. Монахов как раз и любил, он знал и узнавал отличие это. И тем не менее этой местности как бы не было, то есть, точнее, она уже была. Была когда-то. Не так давно кончилась… Монахов приехал и уже ее не застал. Не было местности.