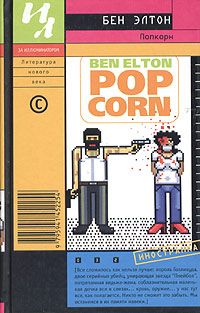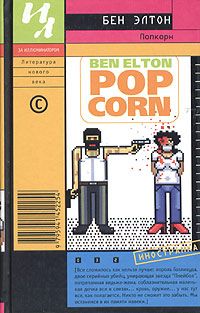— Он вообще не хотел умирать!
— Да? Он всегда говорил, что ему легче умереть с моей любовью, чем жить без нее. А ты-то сам, а? Как тебе дались последние семнадцать лет? Кто бы мог подумать, что ты превратишься в конторскую крысу? Ты же мечтал быть рыцарем в доспехах! Что, не хочешь быть рыцарем? Думаю, хочешь.
Отто оторопел. Дагмар всегда умела взять верх. Конторская крыса.
Она видела его насквозь.
— Прости, — тихо сказал он. — Наверное, я не вправе тебя осуждать.
— Никто не вправе меня осуждать за что бы то ни было. После того, что Гитлер со мной сотворил.
Дагмар встала. Закурила уже бессчетную сигарету. Руки ее дрожали.
Слова ее и запальчивость вернули Отто к действительности.
— А где Зильке? — спросил он.
Дагмар на него взглянула. С силой выдохнула дым.
— Господи боже мой! Ты не понял, что ли? Паули догадался бы еще в аэропорту. Я и есть Зильке.
Охотница на евреев
Берлин, 1945 г.
Всякий раз, когда ожидался приход друзей Зильке, коммунистов-нелегалов, атмосфера в квартире накалялась.
Дагмар их ненавидела со всем пылом истинного консерватора. Не только потому, что визиты коммунистов были опасны, но и по идеологическим мотивам. Она ненавидела их в память об отце. А еще потому, что считала их лицемерными болванами, скопищем эгоистов и фантазеров, которые выставляют себя на посмешище: за голым кухонным столом с единственной свечой заводят теоретические дебаты и строят грандиозные планы будущего правительства, торжественно салютуя сжатым кулаком.
Зильке же свято верила, что вместе с кучкой небритых заговорщиков вносит свой вклад в разгром нацизма. Мол, наступающая Красная армия получает от них информацию о действиях гестапо и вермахта.
Но Дагмар ни секунды не верила, что жалкие усилия коммунистов хоть как-то повлияют на исход войны. Наоборот, она была убеждена, что все эти ячейки возникли исключительно в шкурных интересах.
— Ясно, чем ты занята, — сказала Дагмар, когда Зильке известила ее об очередном собрании «Капеллы». — Обустраиваешь свое послевоенное гнездышко. Зарабатываешь очки. Нацисты сгинут, и вы с дружками тотчас рванете во власть, — после отречения кайзера было то же самое. Побежите встречать Красную армию. Будете размахивать шифровками и партбилетами: «Товарищи! Мы — хорошие немцы! Это мы слали вам сообщения!» И получите тепленькие местечки. Знаю я вас, коммуняк. Не зря папа вас взашей гнал.
— Можешь не верить, но не у всех одни шкурные интересы.
— Ха! Таких шкурников еще поискать! Всех учите, как им угробить свою жизнь, а кто не слушает — того к стенке.
Приближался час собрания, и Дагмар, как всегда, ушла в свою комнату. Но вдруг почувствовала, что больше не может сидеть в четырех стенах, где безвылазно торчала уже два года. После смерти мужа Зильке утратила право иметь служанку. Власти потребовали, чтобы украинка Богуслава, на которую Штенгели получали карточки, вернулась на рабочую биржу. Зильке пришлось заявить, что служанка сбежала, и Дагмар взаправду стала безликой «субмариной», в сумраке прозябавшей на крохи, которыми в память о Пауле делилась с ней соседка.
— Не вздумай уйти! — сказала Зильке. — Рехнулась, что ли? А если остановят!
— Нет уж, уйду, а то и впрямь свихнусь. Так и так скоро конец войне. Твоя героическая Красная армия уже в Восточной Пруссии, и через месяц все мы станем коммунистами.
— Очень надеюсь, — огрызнулась Зильке.
— Ну и прекрасно. Мне уже не терпится надеть телогрейку и вкалывать в колхозе. Однако напоследок обуржуазюсь. Причешусь, подмажусь и в туфельках прошвырнусь по улицам.
— Господи, дома-то безопасно! Зачем рисковать?
— Затем, что хочу почувствовать себя человеком!
— Не ори! — прошипела Зильке. — Не забывай, тебя здесь нет.
— Тебе-то хорошо! — лишь чуть-чуть тише сказала Дагмар. — У тебя есть твоя дурацкая политика. А у меня что? Ничего! Двенадцать сраных лет — ничего!
— У тебя были Пауль и Отто! — закричала Зильке, забыв о собственном предупреждении.
— Да отстань ты со своими близнецами! — раздраженно отмахнулась Дагмар. — Да, да, они меня любили. И что теперь — сомлеть от благодарности? Они любили меня. Не тебя. Извини. Конечно, при коммунистах ты бы заставила их в тебя влюбиться, но твоя долбаная революция маленько припоздала. Пауль погиб, Отто уехал!
— Ну ты и сука! — Глаза Зильке налились слезами. — Прямо сволочная сука!
— Очнись, Зилк. Я иду гулять. Если ты не полная дура, пошли вместе. Здесь мы обе сбрендим. Надеюсь, в Тиргартене еще остались кафе. Выпью чашечку какого-нибудь дерьма и хоть на часок воображу себя человеком, а не жертвой нацизма. Ты идешь?
— Нет, конечно. У меня собрание.
— Ну пока.
Вот прическа-то с макияжем ее и сгубили. Останься она служанкой Богуславой в балахоне, косынке и фартуке, никто бы ее не заметил. Но Дагмар Фишер привыкла, чтобы ей смотрели вслед, даже нынешней — бледной и исхудавшей. Ей это нравилось. Она нежилась под оценивающими взглядами изможденных солдат, следуя давнему совету Пауля: держись нагло, и никто не полезет с вопросами. Хватают тех, кто жмется к стене.
Дагмар чувствовала себя в безопасности. Ну какой ариец узнает в ней наследницу еврейских капиталов, якобы покончившую с собой еще в тридцать девятом?
Но красавицу, которая, притягивая восхищенные взгляды, на мощеной аллее Тиргартена угощалась скверным желудевым кофе, узнал не ариец.
Ее узнала еврейка.
— Привет, Дагмар, — сказал чей-то голос. — Надеюсь, ты меня помнишь?
Дагмар обернулась и похолодела. Ей улыбалась красивая молодая женщина. Ее ровесница. Еще одна еврейская принцесса, исчезнувшая в тридцатых. Блондинистая версия самой Дагмар. Но имя ее наводило ужас на всех берлинских «субмарин». Стелла Кюблер,[78] охотница на евреев.
Изящная соломенная блондинка с арийской внешностью, она покупала себе каждый день жизни доносами и предательством.
В гестапо ее прозвали «белокурой отравой».
— Я вас не знать, — на ломаном немецком промямлила Дагмар. — Моя венгерский. Служанка.
— Да ладно тебе, — усмехнулась охотница. — Игра окончена. На скольких вечеринках мы с тобой побывали. Потом нас вместе поперли из бассейна. Я даже была на вашем прощальном ужине в «Кемпински». Все гадала, где ты объявишься. Уж я-то не поверила в байку о самоубийстве. Только не Дагмар Фишер. Классно выглядишь, ей-богу. Как тебе удается?
За спиной зловещей красавицы маячили двое в плащах и хомбургах. Они шагнули вперед и скрутили Дагмар.
Прятки закончились. И вот она пленница гестапо.
Меж Рапунцель и Красной Шапочкой
Берлин, 1956 г.
— Да, я слышал о Стелле Кюблер, — сказал Отто. — Кажется, ей дали десять лет?
— Верно, но она уже отсидела и дернула на Запад, — ответила Дагмар. — Надеюсь, кто-нибудь перережет ей глотку. Хотя не мне говорить. Пусть я не выдала две тысячи евреев, но…
— Ты выдала Зильке, — за нее договорил Отто.
Они бродили по парку, и ноги сами привели их в «Волшебную страну» со ста шестью сказочными персонажами. От воспоминаний о красивой беспечной девчушке, носившейся меж скульптур, щемило сердце. Она околдовывала сильнее любого сказочного существа. Хохотунья нарочно давала себя поймать меж Рапунцель и Красной Шапочкой.
Теперь это другой человек. Лишь оболочка прежняя.
— Да, выдала, — холодно сказала Дагмар, уставившись в каменное изваяние Златовласки. — Либо я, либо она — вот и весь выбор. Уже никто не строил иллюзий о том, куда везут нацистские эшелоны. Би-би-си два года об этом твердило. Арест означал смерть. Меня арестовали.
Она присела на постамент Рапунцель и усмехнулась:
— Помнишь догонялки за поцелуй?
— Конечно, помню. Ты, я и Пауль. И Зильке. Она была с нами.
— Да уж куда она денется, — с наигранным равнодушием буркнула Дагмар. — Все, бывало, куксилась. Бешено завидовала, что ловят меня.
— Что было потом?
— Неизбежное. Меня арестовали, и я предложила сделку. Многие на это шли. Пытались выторговать жизнь за чужой счет. Нет, встречались и герои, только их было гораздо меньше тех, кто сейчас бьет себя в грудь.
— Расскажи, что произошло.
— В отличие от многих у меня было что предложить. Если отпустите, сказала я, выдам ячейку «Красной капеллы». От радости они прямо ошалели. Чего им неймется? — думала я. Русские у ворот, война вот-вот кончится, а они все гоняются за коммунистами и евреями. Точно курица, которой отрубили голову, а она еще бежит по двору. Меня отвезли в управление, задали кучу вопросов и заполнили кучу бумаг. Бумаги! Берлин горит, а они пишут бумаги — в трех экземплярах с двумя печатями. Я обещала указать коммунистов, у которых пряталась. И опознать других, если меня отпустят. Хоть на поводке. Они согласились, и я привела их к нашей квартире. Из-за угла смотрела, как выволакивают Зильке и трех ее дружков. Помню, Зильке кричала: «Вся власть Советам!» Представляешь? Прямо как в русской киноагитке. Потеха. Арестованных увезли, я осталась с одним полицейским. Уже приготовилась его соблазнить, но тут начался налет. Точнее, возобновился. Бомбили беспрестанно: американцы — днем, англичане — ночью. Легавый рванул в убежище, я вроде как следом. Но потихоньку отстала. В городе бедлам — сыплются бомбы, летят русские снаряды. Ну вот, а после налета я оказалась одна. Вернулась в квартиру. Просто чудо, что она уцелела во всех бомбежках. Идти мне было некуда, а там оставалась кое-какая еда. В последние дни войны ради еды ты бы даже в пекло полез. Переночевала. Впервые одна во всей квартире. Мне было хорошо. Пусто. Никого. Только я и обезьянка, которую ты тогда спас. Пожалуйста, сядь со мной, Отт. Тяжело говорить.