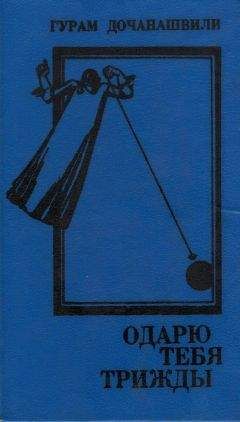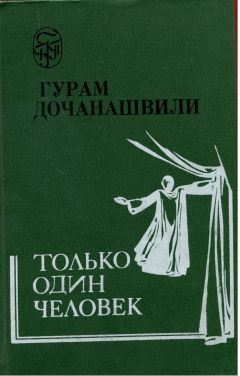— Поднеси к губам и облобызай!
Ночь была беспросветно темная!
А у флейты...
А у флейты была жиденько-серебристая, трепетнонежная душа Луны, и здесь, в этой грязи коровника, жизнь в ней, так надолго заброшенной сиротой, жизнь в ней лишь едва-едва тлела, но теперь на нее, до сей поры беспощадно отринутую, уже начинало нисходить упование, потому что отогревающаяся и раззудевшаяся от тепла душа сироты добралась до нутра того волшебника и заставила его зашевелиться.
Здесь, в этой невыносимой затхлой вонище, принимая дыхание глубоко преданной ей души, бестелесно легкая флейта исходила тоненькими, прозрачными звуками, и в непроглядной тьме с легким шелестом, поблескивая, пробивались серебряные побеги, ибо ведь флейта была веточкою Луны. И хотя стояла глубокая черным-черная ночь, чего только не вытворял в этой чернильной тьме истосковавшийся от безделья тонюсенький призрачный волшебник: он будто обласкивал — во имя возвышения — все и вся вокруг своими большими ладонями, и густой, застоявшийся, камнем нависший смрад растрескивался под нежными звуками, и рассеивалось, улетучивалось все гадкое и мерзкое. И кто бы мог подумать, что он в состоянии обрести такую мощь в этом затхлом заплесневелом коровнике. Провалявшись столько времени во сне, он теперь, вдохновленный, завороженный трепетно-нежным дыханием, потягивался, томимый желанием. И чем только не располагал этот властитель Ночи, чтоб обласкать, даже и оставаясь в коровнике, этот лес, этот холм, такое огромное небо... Словно курящийся ладан, флейта очищала воздух от всякой нечисти, даровала покой и умиротворение, ибо она, первейшая из инструментов, подобно еще одной только скрипке, несла в себе самое главное из всего того, что есть на всем белом свете, — Свободу и Любовь. И как будто бы поправший всех других, а на самом деле попранный и приниженный, наш Бесаме с мягко всхолмленных вершин музыки вновь видел землю с суетящимися на ней, точно мураши, людьми и ватерполистами. И что же было в этом слабом звуке, исполненном при всей нежности столь великой силы, что ж это было — сорвавшаяся с гор лавина? Землетрясение?.. Выросшая из океана огромная синяя гора, вздыбленная присущими океану страстями?.. Что же это все-таки было — величайшая рука извлекала из недр дымящегося вулкана волшебные соты. Что это было? А Музыка, всевластная владычица мира — Музыка. И что ей было до затхлости и языческого зловония! В этом грязном загоне не как завоеватель — боже упаси, нет! — а как мироносец стоял наш Бесаме, и лицо Великого Старца приняло суровую лепку, ибо кому как не ему, большому музыканту Христобальду де Рохасу, было знать цену утраченным и ныне вновь обретенным сиротой и заново сметанным звукам, знать цену этим явственным тягостно-легковесным снам! А уж этот волшебник, чего он только не выделывал: на высоких нотах он как бы подпрыгивал, чтоб сорвать свисающий плод, а на низких поддувал ветерок и снежило. Туман лежал над дальними садами, какой-то неведомый лик рисовался в глубоком колодце, на лужи сеял мелкий реденький дождик, а на морском дне замер обреченный мокроте диковинный кустарник. В звуках флейты было что-то чистое, как слюна спящего младенца, тяжело свисающая с подбородка, а сама флейта рабски покорствовала тому напитанному тьмой воздуху, который тянулся светозарной дорогой ввысь, ибо Луна была самым благодатным, самым добродетельным среди рассеянных в пространстве синих островов с прозрачным воздухом и чудодейственной землей... Тоненькие порхающие звуки насквозь пронизывали очищенный коровник, осеняя его облегчением и отрадой, явственно ощущался аромат хвои, потому что Бесаме сам походил теперь на волшебное, дарующее нам дыхание шишконосное растение с одной-единствеиной волшебной ветвью, на которой диковинным плодом прорастала сама она — бездонная и бескрайная, сама она — богатая и щедрая, сама она — беспредельно милостивая, сама она — вольная, плавно вибрирующая в пространстве скрытая мощь, сама верховная властительница нашего высшего повелителя, нашего всеобъемлющего владыки воздуха, сама она — великая вдохновительница, сама она — Музыка!
Мальчик натягивал на себя пожалованную Великим Старцем одежду — обычное платье крестьянина; брошенные там же рядом, фальшиво поблескивали обшитые позументом брюки и куртка с эполетами. А из темноты звучало: «Твердо запомни, Бесаме, что звуки в пространстве не теряются». Даа, Бесаме знал, хорошо знал, что набухшие смешанной с наслаждением болью частицы настигнут и его оболваненных собратьев и их тоже облагородят. «И какие бы долгие времена ни прошли, Бесаме Каро, времена Альб и Каллигул, крови и ужасов, пронизывающего трепетом страха и великих потрясений, звуки все равно остаются и каплют в наши уши, и еще не случалось на свете, чтоб какая-то хоть самая крохотная их часть потерялась!» — Он повязал ему через лоб и затылок прохладный бархатный плат — этот надежный знак флейтиста. «По пути, в Кордове, Каро, та сестра омоет тебе тело... А что делать с твоими песо, мальчик?» — «Пусть они будут нищим». — «Когда их одарить?» «В День Светлого Воскресенья. А много их, нищих?» Старец вновь возложил ему на голову свою крупную ладонь и чуть-чуть его подтолкнул. И, прошагав, ночь напролет к деревне, Бесаме видел, как медленно-медленно, будто в тяжких вселенских родах, занимается заря и в светлеющих далях постепенно обрисовываются земля и небо, и понял он, что схож рассвет с первым пронзительным криком новорожденного, понял, почему мир озаряет сияющий свет и для чего затем бесшумно спускается ночь, и, как истый человек мира и человек земли, Бесаме днем пахал, жал, поливал, а флейта его, поскольку она принадлежала Луне, все же предпочитала ночь, да, да, предпочитала ночь. После полуночи Бесаме осторожно выходил из своей лачуги, и как же нежно, как чисто заливались бубенчики Луны над ближними, не знавшими собак деревнями, над спящими крестьянами—тружениками этой благословенной земли, ее хозяевами и рабами; какое же облегчение и какую отраду несли звуки этого самого таинственного инструмента! Чувствовал облегчение и сам Каро, вновь сирота Бесаме, ибо его, стоящего на земле босыми ногами и облагораживающего флейтой ночь, уже не мучили и тревожили больше сомнения: «Зачем я есть. Для чего...» Будто бы в полном одиночестве сидел он в семядоле Ночи, окутанный, как всенощной, звуками флейты, и это, именно это и была, с вашего позволения, его восстановительная работа — распространение по земле и населяющему ее людскому муравейнику легкой флейтой Свободы и Любви, а где-то неподалеку, затаив дыхание, ютился Афредерик Я-с, с самого же начала привязавшийся к чересчур сироте, и радовался, что жанр его вроде бы оправдал себя — свободен был мальчик... Правда, Афредерик порой даже и забывал об избранной и предопределенной ему отрасли, об этой самой фантастике, и тогда он не зря вспоминал своевольную женщину по имени Кармен — через нее он выражал свою приверженность Свободе, воспевал Свободу, этот дикорастущий кустарник души. Уж очень он любил Свободу. Ведь, как вам хорошо известно, ничего не происходит случайно в этом подлунном мире, так почему же было Афредерику случайно стать фантастом, и вот, чтоб утвердиться в жанре, он предлагает вам перед близящимся расставанием, он предлагает вам — вы просто не поверите — перечень использованной литературы. А именно:
— Проспер Мериме, «Кармен», перевод Ар. Цагарели.
— Федерико Гарсия Лорка, «Испанские колыбельные песни», перевод В. Бибихина и В. Чернышовой.
И, наконец, послушаем его самого — уж сколько времени он, бедненький, не докучал нам своей невидимой персоной. Ему, несчастному, встречалось в жизни множество всяких презабавных занятий, и он избрал самое из них превосходное, прозу, и если он где-то и погрешил стишками, то простите ему великодушно, кто из нас не пялил безотчетно глаза на хорошенькую женщину? Его уже не удивляет и то, куда подевались, бесследно затерявшись где-то, все эти всемогущевластные курфюрсты, а вот Бетховен, как будто бы зависевший от них, остался, и вот, вспомнив об этом мельком, Афредерик Я-с горит нетерпеливым желанием перечислить их, величайших владык воздуха, которые так явственно сотрясают его — властителя всего и вся — Воздух — назвать иногда тишком, а иногда во весь голос великих людей, великих властелинов, всего шесть человек: Бах, Гендель, Моцарт, Вивальди, Россини, Верди. И еще раз, простите, пожалуйста: Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Георг Фридрих Гендель, Антонио Вивальди, Джоакино Россини, Джузеппе Верди.
Каро, дорогой! Афредерик Я-с в меру своих немощных силенок потрудился для тебя и не то что без попрека, но с радостью пошел из-за тебя, избранника судьбы, на этот труд. Где только ни шатался он, следуя за тобой, по каким городам и весям ни сопровождал тебя, и — черт его дери! — удивительная все-таки штука жизнь — совершенно непонятно, какая такая сила связала его, кавказского Афредерика этого трудного века, и тебя, такого очень-очень далекого Бесаме Каро? Откуда до его слуха дошли эти твои звуки? Наверно, даже едва тлеющие их частицы и вправду никогда не теряются, а остаются — сильнее видимые по ночам — на веки веков. И хотя Афредерик и по сю пору не знает, в какой деревушке, подле какой маленьком колоколенки покоится твой прах, однако все же следует сказать, что беспризорных могил не существует, ибо земля — достояние всем и этот воздух над нею всегда колеблется.