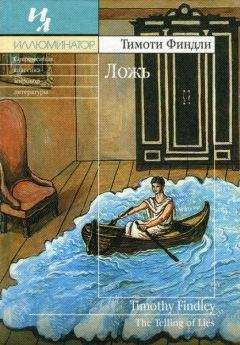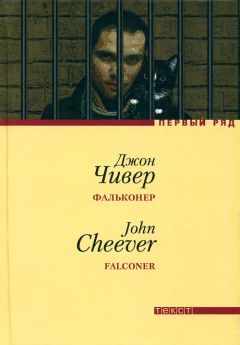У Майкла вид сконфуженный, не обескураженный, нет, но слегка нерешительный: как сберечь достоинство мундира, которое эта женщина оскверняет своими алчными руками? Однако он улыбается. А что ему оставалось?
Я стою рядом с ними — идеально демонстрируя комплекс невестиной подружки, то бишь растерянной лучшей подруги. На свадьбе у Мег я не присутствовала, и подружкой невесты меня можно было назвать лишь в фигуральном, почетном смысле. Они поженились в Лондоне в 1944-м, когда я еще сидела на Яве в лагере. Но тогда я вправду была растерянной подругой — растерянной оттого, что не знала, как себя вести с этим замечательным человеком, который стал между нами.
Я в соломенной шляпе с широкими полями, ее ленты спадают на мои прямо-таки вызывающе торчащие ключицы. Глаза косят в сторону. Мне явно недостает уверенности посмотреть в объектив. И я пасую, опускаю руки и словно бы хочу убежать.
Из всех снимков, сделанных в дни нашей молодости, это единственный, где наши душевные состояния совершенно не совпадают. Я рада, что он висит здесь, на стене, напоминая мне об опасностях лишений. Не об очевидных угрозах здоровью, надеждам и счастью, но попросту об опасностях долгой разлуки с хорошо знакомым, внушающим доверие.
32. Я допила чай, приняла пилюлю — то и другое пошло мне на пользу — и, выходя из библиотеки, краем глаза взглянула на одну из недавних фотографий. Прошлогоднюю, если точно. На ней изображены я, мама, Арабелла Барри, Айви Джонсон и Джейн Дентон; все перечисленные дамы — мамины ровесницы. «Иди сюда, сфотографируемся вместе», — сказала мама.
Терпеть не могу этот снимок. В общем-то, не мешало бы спросить у Куинна Уэллса, нельзя ли его убрать. Не от гордыни. Просто меня коробит, когда я вижу себя этакой неотъемлемой частью кружка Арабеллы, Айви и Джейн. Слово «дракон» придумано не иначе как специально для Арабеллы Барри. Всю жизнь меня преследовало ее огненное дыхание.
Ну да ладно.
Возле этого снимка я задерживаться не стала. Однако не могла не сопоставить его с тем, другим, который рассматривала. Ведь здесь, возле мамы и ее приятельниц, я со всей очевидностью предстаю такой, какова я сейчас: волосы совершенно седые, черты лица и фигура без всяких прикрас, осанка та самая, какую я так стремилась сохранить, — прямая, решительная, несгибаемая, — и выражение лица именно такое, какое мне хотелось бы иметь всегда. Оно не выдает секретов, говорит лишь одно: это я.
Признаюсь — и не без удовлетворения, — что, выходя из библиотеки в холл, я улыбалась. Та, что на второй фотографии, определенно пережила ту, что на первой. И все же той, с первой фотографии, умирать ради этого не пришлось. Они обе по-прежнему со мной, и обе живы.
33. Смерть настигла Колдера ближе к вечеру. День, поначалу туманный, к трем часам пополудни дышал ослепительным солнцем и прямо-таки убийственным зноем. Обедать не хотелось, я пошла на пляж, где одни только заядлые пловцы да любители загара умудрялись выдержать палящее полуденное солнце.
Точно пес, потерявший хозяев, айсберг даже не собирался нас покидать. Вопреки воинственным призывам генерал-майора Уэлча мы не предприняли никаких насильственных действий, чтобы избавиться от него. И он стоял без малого в миле от берега, прямо напротив «Аврора-сэндс», дожидаясь — опять же как пес, — когда за ним придут. Но сам по себе, как собственно айсберг, в своей арктической холодности и чеканной недвижности он казался этаким зачаленным реквизитом, ну, скажем, из пропагандистского фильма о канадско-американских отношениях: ваша ледяная скульптура — наш Капитолий.
К сожалению, слухи об айсберге успели добраться аж до Портленда, и местных репортеров уже отрядили сделать снимки и выспросить насчет его появления. Они и мой снимок клянчили, но я твердо сказала: спасибо, нет. Свои фотографии я отправила в холщовую сумку, как только увидела на дальнем конце дощатой дорожки знакомую белобрысую девицу и рыжего парня.
Дело в том, что иной раз — несмотря на все наши усилия — вести о присутствии в гостинице неких знаменитостей выходят из-под контроля, и эта пара стервятников здесь уже бывала. Оттого я и знаю их в лицо — высокую, усталую, невероятно заносчивую девицу и коротышку-парня ростом пять футов, готового поверить во что угодно. (Однажды кто-то пустил слух, что «прибой выносит на берег огромные количества золотых слитков», и рыжий коротыш не поленился приехать из Портленда, чтобы заснять сей факт!) Так что айсберг наверняка казался ему Божьей карой для всех на свете неверующих. Завидев ледяной колосс, он немедля напустил на себя важность, впору подумать, будто он его и сотворил. «Ну и ну! — повторял он. — Вот это да!» Причем, бог свидетель, уперев руки в боки. Фамилия его, по-моему, Биддолф.
Девицу зовут Фей Рейнолдс. Она хоть и смотрела на вещи скептически, но по крайней мере вносила разнообразие. Для нее айсберг был «очень даже ничего, если любишь подобные штуки». Он «крутой» и «балдежный», но, «право же, всего-навсего очередная манифестация эпохи, в которой мы живем». И прочие гиперболы из области природы. Фей видела слишком много выброшенных на берег раздутых китов, интервьюировала слишком многих уцелевших в беспримерных ураганах, подготовила слишком много материалов о жертвах СПИДа, болезни легионеров и кислотных дождей. Выражение ее лица, рот и глаза напоминают мне людей, которых я видела, когда кончилась война, — этакая привычная жесткость, готовность принять еще не грянувший удар.
Вначале, при первых встречах, Фей пришлась мне по сердцу, но в конце концов я остыла, потому что она заимствует чужие заботы и пренебрегает собственными. Как выяснилось, у нее двое детей, с которыми она вообще не видится. «За ними смотрит моя мама. Я слишком занята». Однажды, я уверена, она напишет об их заботах и будет удивляться, откуда эти заботы взялись.
Я дала ей короткое, беглое интервью и попросила не упоминать мое имя.
— Напишите: один из постояльцев гостиницы.
Она тоже спросила, нельзя ли ее газете использовать мои утренние фотографии айсберга, выплывающего из тумана, а я ответила (Господи, прости меня, грешную):
— Какие фотографии?
— Да ладно вам, мисс Ван-Хорн, — сказала она, — прошлым летом я брала у вас большое интервью насчет того, как вы фотографируете. И по меньшей мере человек шестьдесят уже сообщили мне, что нынче утром вы нащелкали чертову уйму кадров.
Но я стояла на своем: знать, мол, не знаю ни про какие такие фотографии, — и в конце концов Фей ушла искать другую жертву.
Правда, перед уходом я все-таки успела спросить ее насчет дорожного кордона, о котором говорила Мег. Может, накануне там произошла авария? Или преступника какого ловили?
— Нет, — ответила Фей, — просто отрабатывают действия в чрезвычайной ситуации. В последнее время они без конца тренируются — то, дескать, бомбу взорвали, то еще что-нибудь в этом духе.
Еще что-нибудь в этом духе. Крутое и балдежное, наверняка.
Рыжий Биддолф между тем ретиво снимал айсберг со своей лилипутьей перспективы, извел чертову уйму пленки, и, наконец, примерно в час дня они убрались восвояси, чтобы в срок сдать материал для вечернего выпуска.
Любителей поглазеть, правда, не убавилось, но в большинстве они были на яхтах и самолетах, а поскольку айсберг находился поодаль от берега, их присутствие не слишком нам докучало. Надо признать, на фоне бело-голубой громады парусники выглядели весьма живописно.
34. Тем временем я ушла подальше и около двух уже сидела на своем любимом месте — на высокой закругленной дюне, которая за все лето не изменилась, хотя перед теперешней жарищей погода стояла ветреная и дождливая. Мне отчаянно хотелось побыть в одиночестве, чтобы переварить печальное зрелище, представшее передо мною нынче утром, и печальные, горькие слова Мег. Я бы нипочем не смогла нести такую тяжесть, какую несет она, и уже так долго. Одна мысль об этой тяжести внушает ужас.
Болезнь Майкла впервые дала о себе знать лет этак десять назад. Все началось с нервного истощения, он обратился к врачам и в конце концов лег в клинику. Доктора называли его болезнь тем жутким эвфемизмом, каким обозначают чуть не тысячу версий отчаяния, — срыв. А потом, последние пять лет, один за другим удары, параличи, потеря памяти, и в итоге он стал таким, как сейчас.
Если б они меньше любили друг друга. Если б Мег не держалась так за свою преданность. Преданность убивает. Мне ли не знать? Любовь не на пользу тем, кто любит без памяти, всей душой. Мег ужасно горевала из-за Майкла, и это совершенно испортило ей характер. Она была по-прежнему веселой и очаровательной, только ее улыбки и смех сделались какими-то театральными. Играй! Играй! И до конца играй! Убила бы того, кто это написал. А написать так мог только мужчина.