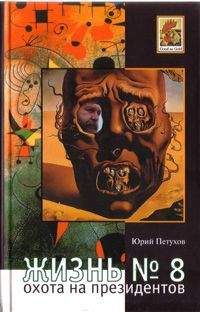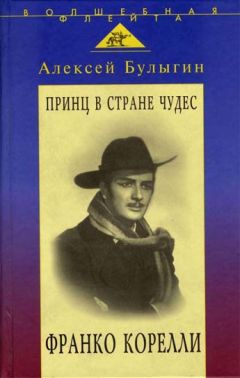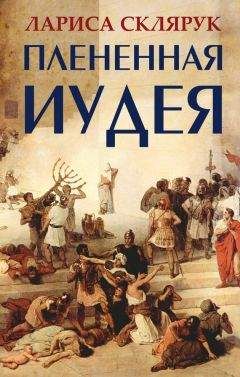— Управлюсь, — ответил он. Выпил ещё стакан водки. Он всегда пил или из горлышка или из граненого стакана, даже когда вокруг стоял самый изысканный хрусталь. Кеша был большим оригиналом. С его доходами и с его авторитетом можно было выделываться как угодно. Выпил, поглядел на меня… видно, что-то ему не понравилось в моём интеллигентском облике, скривился. — У тебя рука дрогнет… ловец душ человеческих, ты мой. — Не дрогнет…
Я знал точно, не дрогнет. Пока Кеша служил морпехом и рвал на груди тельняшки, я тоже времени даром не терял. Мы брали с собой три-четыре ствола, наволочку патронов и уходили в лес. Это было сто лет назад. Но это было. Во всех ротах старшинами старшинили сверхсрочники. А у нас — свой брат, сержант, нашего призыва. Лямку он тянул на совесть. Но дурил с нами заодно.
Мы сидели на лесной поляне под высокими и прямыми, какими-то нерусскими дубами, пили одеколон «Шипр» или паршивое мадьярское вино, кислятину и дрянь несусветную, реже водку. Потом стреляли друг в друга. Потом снова пили… И у нас не дрожали руки. Надо было просто нацелиться точнёхонько в лоб тому, кто сидел напротив, в трёх метрах… а потом нажать спуск. Патроны были обычные, боевые, других у нас и не было. Пили мы вчетвером. Стреляли по очереди… пока не косели совсем. Когда косели и дурели, начинали палить направо и налево, по белкам… которые ещё час назад учесали от нас во всю прыть к австрийской границе. Но это потом… А пока надо было не дёрнуться, не скривиться, не пригнуться, не показать, что ты чмо гражданское.
— А-а-а-а-а… — вопили с боков друзья-расстрелыцики с такими добавками, что хотелось их самих пристрелить. — А-а-аааа!!!
Пуля свистела у виска, сшибала ветки. И наступала твоя очередь. Старшина стрелял из своего «Макарова», Валерка и Вовка, в основном, из «калашей», а я чаще из «стеч-кина». Я любил этот пистолет-громилу с его автоматными патронами, с кобурой-прикладом, он напоминал мне маузер легендарных времён. Я привык к нему, когда был помощником гранатомётчика… и полюбил. «Макаров» был слишком лёгкий, вот там рука могла дрогнуть, а «стечкин» был надёжен как Сбербанк в советское время. Я наводил ствол прямо в лоб старшине или Валерке, кто сидел напротив, выделывался минуты три под ехидные вопли, поводя стволом с одного глаза на другой, потом на нос… а потом нажимал пальцем спуск… и чуть-чуть, еле-еле, ну просто на каплю капельную уводил ствол вправо, всегда вправо и немного вверх, вместе с нажатием… пуля послушно скользила над виском или возле уха и потом куролесила в чаще, ломая с треском ветки, или просто растворяясь в тишине.
А мы смеялись и наливали по-новой.
То ли нам жизнь была не дорога, то ли просто дуболо-мами были… Один раз только Валерка прострелил старшине пилотку из «Макарова». Он так и ходил до дембеля в дырявой… пижон.
Потом, как обычно, прибегал какой-нибудь перепуганный молодой из караулки, лепетал чего-то про ротного, про то, что там все на дыбах, думают, чуть ли не война! чуть ли не инцидент международный! Молодого ставили к дереву и расстреливали из четырёх стволов для острастки… любя, конечно, невсерьёз, просто чтоб служба мёдом не казалась и чтоб привычка была. Потом наказывали передать, что, мол, старшина пристреливает новый автомат… и давали пинка. За полтора последних месяца расстреляли ящик патронов из ружпарка.
Это было благородно.
Нынче старшины и прапоры в доле с генералами и мичманами крадут складами, тысячами стволов, миллионами снарядов и миллиардами патронов, отоваривают чеченегов и банды, а потом — маленький пожар, фейерверк по телевизору… и на новый склад с повышением.
Тогда было не так. Тогда всё было благородно, честь по чести. Наш срочный старшина признался, что просто расстрелял ящик по пьянке, сам, один… его поняли и простили. Это было по-нашему, по-русски. Ведь он мог его продать мадьярам, местным, запросто, те, как цыгане, паслись у частей, особенно у секретных, и скупали всё. Мадьяр мы не уважали, они были жлобами и придурками. Они были туземцами-дикарями и портили своим диким видом прекрасные мадьярские пейзажи. Это знал каждый воин-интернационалист из нашего батальона. Мы выменивали у туземцев вино… на лезвия для бритья, батарейки, приемники, часы и даже обычные иглы, которыми подшивали воротнички к гимнастёркам.
Но оружием мы не торговали. Мы любили Родину. Наш геройский батальон охранял какие-то ракеты, что были в холмах, четыре периметра, вышки, посты, собаки… а потом запретная полоса. Все давали подписку о неразглашении и все знали, что ракеты ядерные, что в случае заварухи, они с ходу уйдут по назначению… и нам останется только пойти на прорыв и геройски погибнуть.
Ротный Дюванов так и кричал нам, пуча глаза:
— Прорвать оборону, вклиниться железным клином и собственными костьми мост промостить для наступающих за нами… геройски! по-русски! Ясно, бойцы, мать вашу!
— Так точно! — орали мы.
И нам… мне, я отвечаю за себя, было абсолютно ясно, что именно так и только так всё и будет — ударить… вклиниться… прорвать… пробить… разметать… разгромить… опрокинуть и геройски погибнуть! Ведь мы стояли на самой границе с врагом. И мы уже раз восемь отрабатывали этот последний, смертный бросок на запад.
Один батальон… иголка… пять танков и тридцать бэтэ-эров… триста стволов… и триста парней, готовых умереть в последнем яростном броске.
Эти штопаные гондоны вывели наши войска из Европы. Они не знали, что с такими парнями там можно было стоять до скончания света… ведь это была наша земля, взятая по всем законам, «на штык», ещё в сорок пятом.
Нет… знали… просто им хорошо заплатили. И теперь вражеская сволочь стоит под Питером, в ста вёрстах, на российской земле. А кто считает эту сволочь партнёрами, просто придурок, которому заорали мозги… или гад. Гады гадят у нас. И отрываются на запад. На западе им гадить не дают. Да они и сами с мозгами.
— У меня не дрогнет рука, — повторил я.
— Чего? — не понял Кеша. Он был уже пьян. Или думал о чём-то своём.
Русские всегда о чём-то думают. Русские все философы. А философов в переломные, блин, моменты начинают донимать вечные вопросы.
Вот евреев в пятом годе (и раньше, и позже), когда они пачками стреляли губернаторов, министров, генералов, взрывали князей и царей, вечные вопросы не донимали. Они бомбили! громили! палили! травили! направо и налево! И вся прогрессивная общественность всего прогрессивного мира рукоплескала им! А больше всех русские, русская интеллигенция (та самая, что «говно», по матёрому Ильичу). Русские просто носили прогрессистов на руках, нарадоваться на них не могли…
Доносились! Избаловали да повывели своих доморощенных борцов за счастье народное. Остались одни «международные»…
А тем до русского мужика дела нету. Хоть под корень его реформами, чеченегами и «зюйд-вестами»!
Где вы, бомбисты? ау-у-уууу?!
Бомбистов нет. А бомбы падают. Свистит коса смертная. И от посвиста её каждый день русских на пять тысяч душ убывает. И не только русских…
Каждый день! на пять тысяч!
Кому они нужны, эти русские.
Тихо, тихо лети, пуля моя в ночи…
Зачем я пишу этот роман? Зачем я вообще пишу! После бессмертной «Звездной Мести», которую прочитали миллионы, после нетленной «Звездной Мести», которую поняли от силы пять-шесть человек, ничего и никогда уже не надо было писать! Как Шолохову после «Тихого Дона». Но он ведь писал…
И я вот пишу…
Так бывает. Гагарин после своего бессмертного восхождения всё равно рвался ввысь, к звездам, хотя знал — ничем не перешибить того, первого и единственного взлёта.
Гагарина направили прямо в вечность.
С писателями тоже не особо церемонятся.
И все равно — с нами Бог.
Не с ними. А с нами!
И потому я пишу про эту жизнь № 8.
Почему — номер восемь?
Потому что это моё дело вешать вывески. Не президентское, не прокурорское, и даже не конституционного суда и олигархов (три толстяка, блин!) А моё. Мне Господь Бог дал право судить и рядить, карать и миловать. Ибо писатель, ибо зеркало эпохи.
Как я кого назову, тем он и будет.
И коли скажу, что обожаемый всем прогрессивным человечеством старик Ухуельцин — это гриб-мухомор, дорвавшийся до власти, так оно и останется в веках, ни кресты с аксельбантами, ни миллиарды восторженных спермоизлияний в газетёнках, ни триллионы сооргазмов в голубом телеящике, ни сорок тысяч орденов Гроба Господня не помогут — гриб смердящий! мухомор! шестерочка! тот самый смердяков из Федора Михалыча! то самое быдло-обрыдло, что из грязи в князи… потому всё у него так и вышло-пошло! холуй-лакей и на царёвом троне холуй! холуй — он и есть холуй! Холопьев-холуев порют на конюшне! шпунтируют! и снова порют! на конюшнях! в лакейских! а не в изысканных народных романах…
Всё! Вот такой я человеконенавистник! Кому не нравится, не в зеркало плюйте, а в собственные рожи, уважаемые господа. Вот так. И помните. Господь дает слово тому, кто говорит Его устами. «Мир ненавидит меня, потому что Я свидетельствую, что дела его злы…»