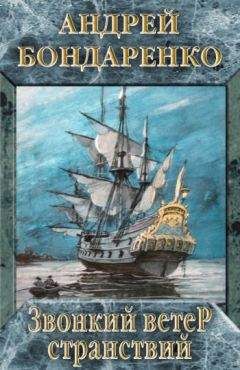— А знаете, о чем я подумал? — вступил в разговор доселе молчавший Виталий Андреевич. — Неплохо было бы записать ваш рассказ и припрятать его до лучших времен: сохранить, так сказать, для истории.
— Это возможно? Вы можете это сделать? — заволновался Сын Вождя.
— Ни я, ни Юрий Алексеевич не можем — мы художники, а не писатели. Но, если вы позволите, мы перескажем вашу повесть кому-нибудь, кто сумеет ее записать и сохранить. Согласны?
— Согласен, конечно, согласен!
— Ну, вот и хорошо. А теперь нам, пожалуй, пора расходиться…
— Обождите, пожалуйста, еще совсем немного! Я хочу предложить вам одну вещь… Я вижу вон там, на полке за стойкой бутылки с шампанским. Прошу вас, скажите мне, а хватит этих денег на то, чтобы нам с вами, втроем, выпить по бокалу шампанского? Знаете, мне приходилось пить вино, а вот шампанского я не пил ни разу в жизни, только видел в кино, как его пьют люди в торжественных случаях. Можно сказать, у меня сегодня торжественный день — не откажите мне, прошу вас! Я только не знаю, хватит на это десяти рублей?
Юрий Алексеевич улыбнулся, взял из его рук деньги и отправился к стойке за шампанским.
Он пил ледяное шампанское, и оно ему ужасно понравилось. Но еще больше ему нравилось, что напротив него с такими же высокими тонкостенными бокалами в руках сидели другие люди, с которыми он только что вел долгую беседу, и они, кажется, понимали его. Ему было очень хорошо и очень грустно.
Потом они вместе вышли из кафе и простились. Друзья пошли в одну сторону, а Сын Вождя — в другую.
И с тех пор, а прошло уже несколько лет, ему не пришлось больше ни с кем разговаривать, а уж тем более… пить шампанское.
А ведь прав был умный и осторожный Виталий Андреевич: его тюрьма не из худших. И почему ему так хотелось, чтобы его официально признали сыном Вождя? В соседнем корпусе казанской психбольницы в одно время с ним сидел вполне законный и всеми признанный сын второго Вождя — помогло это ему? И у него все же были ЕГО ДНИ СВОБОДЫ, пусть не каждый год, но ведь из психушки и раз в два-три года тайком на прогулку не сбегаешь. Да что там, об этом и думать теперь нечего…
А вот о чем еще подумалось. Что-то всегда происходило таинственное в природе в эти дни. Похоже, что Вождь, переворачивая пласты устоявшейся жизни целой страны, терзая живую плоть огромного народа, сам того не ведая, задел какие-то природные, стихийные глубины. Сын Вождя замечал, что в день смерти его отца, и на другой день тоже, либо стоял лютый, мертвящий холод, либо заворачивала-крутила неожиданная метель. Если стоял мороз, а в туманном небе висело стылое трупное солнце, он на улицу не выходил: ЕГО ДНЯМИ были только метельные дни.
Между тем двенадцатый трамвай уже свернул с городских улиц и шел теперь под заснеженными деревьями островного парка. Миновали последние редкие дома, вот и кольцо трамвая. Он вышел и быстро пошел по аллейке вглубь парка.
Его любимое место было неподалеку от дворца, возле заколоченной летней эстрады. В такую погоду здесь никогда не было ни души. Он стал искать глазами свою скамью, прятавшуюся в кустах за эстрадой. Кусты стояли так плотно и были так завалены снегом, что, если бы даже кто-то прошел по аллее, он не увидел бы за ними Сына Вождя.
Он и сам с трудом разглядел черный край своей скамейки, заваленной снегом по всей длине: под горбатым сугробом скамья напоминала гроб. Он наклонился и заправил брюки в носки, а потом уже побрел по глубокому снегу к скамье. Вынув из кармана шапку, он стряхнул с ее края тяжелый слежавшийся снег, расчистив место для сидения, потом утоптал снег перед скамьей, чтобы он не набивался в ботинки. Закончив все приготовления, он сел и приготовился к тишине.
В его уголку было спокойно, даже метельный ветер, прорываясь к нему сквозь заснеженные кусты, по пути сюда почти терял свою бешеную силу и только покачивал ветки кустов.
Вот теперь он был совершенно один и свободен, вот и пришло время для его самых дорогих воспоминаний. Сын Вождя вынул из кармана пальто спичечный коробок, достал из него небольшой белый камень-голыш, посмотрел на него, потом спрятал в ладонях и тихонько проговорил:
— Белый камень у меня, у меня… Говорите про меня, про меня…
Это было в тридцатом году, когда ему было почти двадцать. Что-то уже давно начало меняться наверху — в Кремле и внизу — в стране. Весной «кожаные куртки» перевезли Сына Вождя из Соловецкого лагеря в Петроград. Все лето его держали в одиночке в Крестах, а осенью перевезли в пригородное местечко Стрельна, где на месте разгромленной Сергиевой пустыни была открыта милицейская школа. Там он провел несколько месяцев под бдительным надзором курсантов, которым было приказано следить за ним, но категорически запрещено с ним общаться.
Сыну Вождя понравилась его новая тюрьма. Как и на Соловках, у него была холодная одиночная камера-келья, и он мерз по ночам, но зато утром дверь камеры отпирали, и он мог выходить и гулять хоть весь день по прекрасному монастырскому парку, который пока только начали вырубать. Сразу за школой был Финский залив; конечно, на берег ему выходить не разрешалось, но пока залив не покрылся льдом, он мог издали глядеть на проплывающие пароходы, лодки и яхты. Он быстро сообразил, где находится Кронштадт, и в ясную погоду уверял себя, что видит золотинку креста Андреевского собора. А на северном берегу, на Карельском перешейке — теперь это была заграница, Финляндия — стояла их покинутая навсегда дача, их милый «Кукушкин домик». Он смотрел в ту сторону и фантазировал, что папа приезжает по-прежнему отдыхать на их дачу, гуляет по берегу, смотрит в сторону Советской России и думает: что же стало с этим мальчиком, которого он так долго считал своим родным сыном?
Несколько раз его водили в милицейский клуб, когда там «крутили кино». Однажды он видел документальный фильм, в котором был показан деревянный мавзолей и сказано, что в этой усыпальнице выставлено на всеобщее обозрение набальзамированное тело Вождя.
Голос за кадром возвестил, что этот деревянный мавзолей — временный и что уже строится другой, каменный, на века. Сын Вождя был взволнован и растроган.
Так прошли осень, зима и весна. Он уже начал привыкать к этой жизни, как вдруг в начале лета за ним приехали «кожаные куртки» и спешно перевезли на автомобиле из Стрельны в Ленинград — теперь уже не Петроград, а оттуда, поездом — в Москву. Ехал он под конвоем, но вечером ему принесли горячий чай, а на ночь взяли для него постель у проводника.
В Москве его поселили в роскошном номере большой гостиницы. Номер был из двух комнат, гостиной и спальни, и даже с ванной. Правда, в гостиной постоянно сидели двое вооруженных охранников, но по сравнению с его унылой комнатой-кельей в стрельнинской милицейской школе-тюрьме этот гостиничный номер был очень хорош. Видывал он когда-то гостиницы и побогаче и в парижском «Савое» живал с папой и мамой, но ведь то когда было! После железной койки и серого белья, после грязной и холодной общей курсантской бани, куда его водили после всех, он наслаждался горячей ванной, мягкой и упругой постелью со снежно хрустящим бельем. А уж о завтраках, обедах и ужинах, какие ему доставляли в номер, и говорить нечего! Вместо осклизлых вареных макарон, вместо хлебно-мясных биточков и капустных зраз, которые даже политически подкованные молодые чекисты иначе как «заразами» не называли, ему теперь подавали настоящие ростбифы и бифштексы, хрустящий жареный картофель и салаты из свежих овощей. По воскресеньям на стол ему ставили полбутылки легкого красного вина.
Его приодели. Принесли настоящий костюм, две рубашки, две смены белья, полдюжины носков и целую дюжину носовых платков! Теперь он мог за едой пользоваться ими вместо салфетки. А взамен ватника ему дали серую шерстяную куртку и бежевый плащ.
Днем его выводили на прогулку, и он радовался, разглядывая город, в котором бывал лишь в далеком детстве. Конечно, Петербург ему нравился больше Москвы, но настоящего Петербурга, который он помнил, уже давно не было.
Его даже свозили в Третьяковскую галерею, и это доставило ему громадное удовольствие. Правда, по музею его водили в выходной день, когда в залах работали уборщики и реставраторы, а посетителей не было.
Осмелев, он попросил сводить его в мавзолей Владимира Ильича Ленина, и, как ни странно, ему в этом не отказали.
В мавзолей его сопровождала группа товарищей. Энергичные и сосредоточенные молодые люди в штатском взяли его в плотное кольцо и, минуя длинную очередь советских людей, съехавшихся со всей страны на поклонение Вождю, провели внутрь. Вместо деревянного мавзолея уже был построен каменный, очень мрачный, площадка вокруг мавзолея еще не была обустроена. Через какой-то боковой вход его ввели в усыпальницу, где на возвышении он увидел ЕГО. Зрелище оказалось неожиданно тяжкое и жалкое, несмотря на старательно организованную торжественность, на множество красных знамен и пышных венков: он глядел на желтое лицо трупа за стеклом, и ему совсем не хотелось узнавать его. Но никому в своих чувствах он не признался, не желая огорчать оказавших ему любезность, и просто поблагодарил за экскурсию.