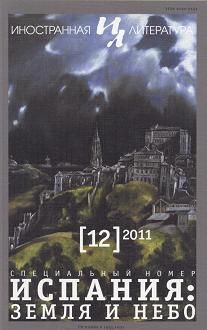– Мануэль, неспроста у тебя такая большая голова, – сказала Леонор Экспосито, провожая его на пороге, а прадед Педро, почти всегда молчавший, погладил мою мать по щеке, вытерев ее слезы, и прошептал ей на ухо тем же тоном, каким разговаривал со своей собакой:
– Доченька, твой отец совсем свихнулся.
Она оставила шитье на стуле, но не осмелилась выглянуть на улицу – не только из-за того, что боялась Маканки, но и потому, что мать настрого запретила ей открывать дверь. Такова была вся ее жизнь в последние годы, с тех пор как она себя помнила: вымощенные прихожие, комнаты в полумраке, закрытые двери, за которые нельзя выглядывать, фантастические голоса на улице, где подстерегало множество опасностей – бомбардировка, стрельба, бегущие толпы мужчин и женщин, кричавших и потрясавших кулаками и оружием, незнакомцы, предлагавшие девочкам карамельки или носившие на плече мешок, может быть, с отрезанной головой, бродяги, дезертировавшие солдаты, арабы, спускавшиеся на закате к источнику возле стены, чтобы стирать свои одежды, танцуя на них черными босыми ногами, а потом становившиеся на колени на расстеленном коврике, воздевавшие руки к небу и простиравшиеся ниц, крича что-то на тарабарском языке – так они молились. Моя мать, услышав звук металлических колес, не устояла перед искушением приоткрыть занавески на окне, выходившем на улицу Посо, именно тогда, когда мимо проезжала телега в форме гроба, с таким же точно заслоном в задней части, каким закрывают печи. Ею правил бледный человек, с лицом чахоточного или возвращенного кжиз-ни повешенного: он подскакивал на облучке, держась правой рукой за перекладину, а левой размахивая кожаным кнутом и с бесполезным остервенением хлеща им по костлявым бокам мулицы. Когда кто-нибудь кончал жизнь самоубийством, за его телом, вместо траурного экипажа из похоронного бюро, приезжала жалкая телега Маканка, отвозившая труп не на христианское кладбище, а по другую сторону ограды без крестов, где хоронили убитых. Маканка появлялась также во время эпидемии, когда совершалось преступление или в водосточной канаве находили труп и было неизвестно, что это за человек и исповедался ли он перед смертью. Поэтому появление телеги на площади Сан-Лоренсо считалось дурным знаком: мгновенно онемев, моя мать слушала стук колес, копыт мулицы, щелканье кнута, будто они уже звучали внутри ее дома; потеряв голову от страха, загипнотизированная и отчаявшаяся, она наконец осмелилась выглянуть на улицу, воображая, что телега остановится перед ее дверью, кучер натянет поводья и, спустившись с облучка, устремит на нее свои мертвенные глаза, в которые ни она, ни кто-либо другой не осмеливались глядеть. Но телега не остановилась, и теперь мать смотрела на нее сзади: длинный катафалк, выкрашенный в черный цвет, ехал мимо тополей и закрытых дверей по пустой площади и наконец застыл, скрипя ржавыми колесами, у крыльца Дома с башнями, под рельефом, изображавшим закованных в цепи гигантов, поддерживавших стершиеся гербы, и фигурными водосточными желобами, раскрывавшими над навесом крыши свои ненасытные пасти. Она увидела на площади приоткрытые окна и любопытные лица женщин, переговаривавшихся знаками с балконов. Ее мать, Леонор Экспосито вышла из кухни, вытирая красные руки о передник, сердито взглянула на нее и, взяв за руку, заставила вернуться в прихожую, закрыв дверь так поспешно, будто ревели сирены и нужно было как можно быстрее прятаться в погребе. Тогда моя мать побежала искать деда Педро: как она и предполагала, тот сидел во дворе рядом с колодцем и гладил по спине свою облезлую от старости собаку, наверное, рассказывая ей вполголоса истории о войне на Кубе и глупости сво-его зятя, который, вместо того чтобы избавиться от формы и спрятаться на время, как сделали многие, или надеть голубую рубашку и приветствовать войска арабов и добровольцев на улице Нуэва, натянул белые перчатки и парадный жандармский мундир, чтобы с должным достоинством быть арестованным и заключенным под стражу новыми властями.
Увидев внучку, Педро Экспосито замолчал, потому что разговаривал с собакой только оставаясь с ней наедине: дед говорил ей что-нибудь и умолкал, глядя в грустные глаза животного, как казалось, понимавшего его слова и кивавшего ему мордой, но если кто-то подходил, он делал собаке заговорщический знак, и та равнодушно смотрела на чужака, будто предлагая разгадать непостижимую загадку.
– Дедушка, – сказала моя мать, от волнения с трудом выговаривая слова, – выйдите на улицу – кажется, что-то случилось: приехала телега мертвых.
Старик молча улыбнулся, словно ничего не понимая, и посмотрел на нее с тем же выражением, какое было в глазах собаки, а потом поманил внучку движением руки, с такой приветливостью и нежностью, будто ему было достаточно приласкать ее, чтобы избавить от любого грозившего ей зла. Он обнял мою мать за плечо, ласково прижал к себе и легко погладил по лицу, как слепой, вспоминающий ее черты.
– Не бойся, – сказал он, – Маканка приехала не за тобой.
Из всех знакомых ей голосов только голос деда – всегда такой приветливый и искренний – мог успокоить ее страх. В голосе отца, который она слышала теперь только во сне, пробуждаясь от собственного плача, часто звучал гнев. Он внезапно начинал кричать, по непонятной для нее причине, и, укрывшись под скатертью, за спинкой кресла или уютно устроившись рядом с дедом, пахнувшим старым вельветом и табаком, она слушала оскорбления и ужасные проклятия, топанье ногами и щелканье ремня, свистевшего в воздухе за закрытой дверью. В голосе ее матери, когда она разговаривала с ней, обычно звучала холодность приказа или горечь жалобы, если не иронические нотки, мучившие ее долгие годы после того, как она вышла из детства, от которого у нее остались не воспоминания о призрачном рае (его она никогда не знала), а тайные муки страха и неуверенности, вероятно, унаследованные мной, так же как овал лица и цвет глаз. Но по крайней мере с моей матерью всегда был голос ее деда Педро, проникший в душу раньше, чем она могла это помнить, потому что она слышала его еще в колыбели, когда дед напевал ей гаванские песни. Ночью ей было достаточно уловить его голос в соседней комнате или просто представить его, чтобы в темноте рассеялись другие голоса, пение ведьм и жуткие рассказы дяди Мантекеро, свист бомб, шум машин, останавливающихся до рассвета у домов, и оглушительный стук дверных молотков, разговор матери и дочери, слышащих из кровати шаги убийцы, пришедшего зарезать их. «Ай, мама, мамочка, кто же это?» – пели в сумерках хором, под недавно загоревшимися лампочками. «Тихо, дочка, доченька, сейчас он уйдет». Эти слова, никого так не пугавшие, как мою мать, ее память монотонно повторяла, когда она лежала в постели: бесполезно было прятать голову под одеялом и читать «Господи, Иисусе Христе», потому что скрип на лестнице выдавал чьи-то шаги, а шуршал не точильщик в потолочных балках и не крысы на сеновале, а кто-то подкапывавший стену закрытого дома, приближавшийся с неумолимостью часов. «Ай, мама, мамочка, кто же это?» – человек, пришедший сказать, что ее отец в тюрьме. «Тихо, дочка, доченька, сейчас он уйдет» – люди, постучавшие в дом на углу и увезшие Хусто Солану в черном фургоне; кучер Маканки, с лицом палача или мертвеца; горбатый врач дон Меркурио, ездивший к больным в одном из последних в Махине экипажей, запряженных лошадьми, казавшемся заранее посланным из похоронного бюро.
Моя мать рассказывает, что карета дона Меркурио въехала в то утро на площадь Сан-Лоренсо несколькими минутами позже Маканки: это был черный и ветхий, как фигура его хозяина, экипаж с кожаным верхом, сносившим капризы природы в течение целого века, со стеклами, потрескавшимися от взрывной волны, и газовыми занавесками, похожими на вдовью вуаль. Дед Мануэль говорил, что однажды видел за ними лицо молодой женщины, на основании чего стал сочинять мифические подробности о мужественности дона Меркурио, по его словам, не изменившей врачу, даже когда ему исполнилось сто лет. Но моя мать еще не видела экипажа и не стала ждать, чтобы по звуку дверного молотка определить, в чьем доме случилось несчастье. Она осталась во дворе, чувствуя себя в безопасности под рукой своего деда, все еще лежавшей на ее плечах, и хранила молчание, как собака: их обоих успокаивал голос Педро Экспосито, который гладил животное по голове и говорил:
– И ты не беспокойся, ведь не за нами приехали.
– Приехали за кем-то, кто только что умер нехорошей смертью в Доме с башнями, – донеслись до них через колодец слова, сказанные в соседнем дворе.
Ночью раздался глухой взрыв, от которого задрожали стекла в окнах: все по привычке решили, что это одна из оставшихся после войны бомб, предательски взрывавшихся на пустырях и заваленных руинами задних дворах.
– Приехали за повесившимся каменщиком, – сообщила Леонор Экспосито женщина, задержавшаяся на секунду у окна и бросившаяся бежать дальше, чтобы присоединиться к робкой группе, собравшейся вокруг Маканки и расступившейся, давая дорогу экипажу дона Меркурио, с таким почтением, будто приблизился трон процессии.