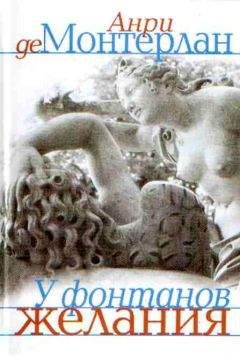(Входя, Косталь сунул перчатки в карман, чтобы не быть здесь единственным обладателем перчаток).
Косталь представлял всех этих мужчин — в шинелях, и тогда любил их, в то время как, видя на них гражданское платье, в нем являлась, скорее, тенденция господствующего класса: усматривать в них грабителей. «Например, этот жирняга… Возможно ли одновременно, — спрашивал себя наш профессиональный психолог, — быть больным и быть жирным? И тот, со своим скотским взглядом… ясно, что с ним ничего, но что такое «ничего»?» Тут мужчина со скотским взглядом поворачивается и показывает профессиональному психологу пустой рукав пиджака. Волна уважения, надежды, страха, внезапной пронзительности взглядов, когда проходит врач. Пронзительность и в то же время униженность. Некоторые приветствуют его, чтобы напомнить о себе, не видевшему их ни разу в жизни. А он, он проходит, попыхивая сигаретой не потому, что он курильщик — вовсе нет — а потому, что это признак его могущества, поскольку курить здесь запрещено. Двум-трем беднягам, особенно усердно здоровающимся, он дает, он оставляет свою руку, не останавливаясь, не поворачивая головы. Проходя, всемогущий, отодвигает немного мужчин, беря их за локоть, с видом превосходства, точно касается спин баранов, проходя сквозь стадо. Сначала они, еще не зная, кто берет за руку сзади, вздрагивают; но, едва увидя, расцветают: всемогущий прикоснулся к ним, недостойным! Ах! их дело в надежных руках.
Если врач останавливается, чтобы поговорить с одним из них, их вдруг уже трое или четверо, потом — шестеро, потом — десяток — бесстыдно образующих круг и слушающих, пытающихся на лету поймать комбинацию, которая поможет добиться чего-нибудь или только ускорит их очередь. Это люди с положением — такие вдруг покорные, такие безумно и грубо почтительные, готовые на все; как это больно.
185
Вывеска извещает, что «Строго запрещено врачам-ассистентам принимать гонорар в кабинетах Реформистского Центра». Почему же, о администрация, должна быть заронена мысль, что эти гонорары несут оттенок чего-то грязного? Мы хорошо знаем, что все, касающееся пенсий, — чисто, как кристалл.
Прекрасная мимическая игра этого человека у входа, когда один из врачей покидает зал. Он борется со своей робостью, наконец, побеждает ее и быстро выходит вслед за врачом, которого атакует уже на улице; он опускает глаза, изображает равнодушие, чтобы другие не уловили его маневр, не последовали за ним, чтобы атаковать врача одновременно с ним.
Мужчины выходят, но и входят тоже. Так что (глубоко убежденный, что это ты пройдешь самым последним) думаешь, что конца этому не будет. В самом деле, это очень «по-военному».
В дверях зала осмотра время от времени появляется служащий и выкрикивает имена тех, кто должен войти. Те, для кого военная жизнь и жизнь гражданская — сплошное убожество, вечные «второклассники» отвечают: «Здесь». Один из служащих выкрикивает имена голосом стентора, и люди смеются, а другие, понимая, что это забавно, смеются в свою очередь. Огромная зубоскальная волна. Внезапный фронт.
Некоторые, входя в лабораторию, сгибают спину, чтобы казаться еще более больными. Другие, наоборот, подпрыгивают, изображая резвость, думая, что вид их понравится больше всего. Больше всего народу заходит в зал «аппаратов дыхания и кровообращения», потому что здесь больше всего возможна симуляция. Сквозь открытую дверь лаборатория является в светло-зеленом мерцании аквариума или Восточной ночи. Урывками можно заметить, что происходит в зале осмотра. Один старается прочитать, что написал о нем врач, и продолжает говорить, лгать в пустоту, тогда как врач, поднявшись, непринужденно поворачивает к нему спину. Другой дышит тяжело, напряженно. Третий возвращается, натягивая штаны, и на кальсонах видна оставшаяся этикетка с ценой: кальсоны куплены вчера, потому что его белье было неприличным. Взгляд кричит, что он облапошил врача или верит, что облапошил, и он идет, опустив ресницы, как человек, идущий к причастию, прячет блеск триумфа в глазах, которые его выдают. Другие выходят с развязанным воротничком или галстуком, что подчеркивает их принадлежность к полицейским властям (всю дорогу сюда Косталь торопил таксиста, думая, что, если опоздает на пять минут, его отдадут под трибунал). Некоторые из выходящих болтали со своими знакомыми. Это мирные французские бунтари; тщетная попытка все уладить. Стоило лишь какому-нибудь другому врачу пересечь зал — и снова во взгляде у них появлялся этот жестокий огонек униженности. Они ждали от него чего-то и тем самым переставали быть бунтовщиками. Бунтуют только против того, от чего нечего ожидать. Время шло, и усталость давала себя знать.
186
Одноногие отказывались стоять. Тупость подавляла стадо. Когда видишь, как они соглашаются, и как сам соглашаешься, приглашенный к полдевятому, пройти в полдень, понимаешь, как она могла продолжаться четыре с половиной года.
Слепой вышел из одного зала в сопровождении девушки — и воинский орден, как спущенный шар, был тут же потерян для Косталя.
У нее были суженные глаза, голубоватые под черными волосами, какие встречаются в Андалузии, что так же волнует, как черные глаза у настоящей блондинки. Маленький лоб (ах! как же она очаровательно глупа!). Кудряшки на шее, и хотя он всегда себе говорил, что любит только стриженые затылки, — вот представившееся удовольствие опровергнуть себя. С новой свободой он уже обожал эти кудряшки. Кожа ее была так натянута, что казалась мраморной и матовой, но чуточку блестел нос, как полированный мрамор, который часто целовали. Она немного склоняла голову набок, как бы для того, чтобы указать место на шее для поцелуя. Он уже любил, когда она взбивала и поправляла волосы (жест мидинеток)1, он любил эту общность некоторых жестов у женщин. Тело было пухленьким и одновременно хрупким, что называется morbidezza2 , не правда ли?
Они прошли мимо Косталя, и он вдохнул ее запах, трепеща ноздрями, как это делают псы. Пара вышла. Косталь не колебался и последовал за ними. Шефу Реформистского Центра он напишет прелестную ложь.
Он решил предложить свои услуги для поисков такси. Но едва те двое очутились на улице, как прошла пустая машина, которую они остановили. И наш дорогой мэтр остался на тротуаре.
Он был этим доволен. «По крайней мере, смогу спокойно поработать».
В день приезда в Париж Андре пошла на концерт. Как много значили раньше эти музыкальные часы в ее безлюбовной жизни! Они заменяли всякое опьянение. Тысячи любовников падали друг другу в объятия. Какое падение затем с седьмого неба на парижскую улицу! Тогда она чувствовала, что никогда бы не смогла выйти замуж за посредственность. В этот раз она скучала на концерте: апатия и безразличие. Музыка, которую раньше она отчаянно любила из-за невозможности любить другое, теперь, в предчувствии скорого присутствия Косталя, показалась просто бесцветной. Косталь отвращал от всего, разрушал все вокруг, все, что ее поддерживало, превращал в пустоту, словно хотел, чтобы она любила впредь только его. То не был уже Бетховен; то был он, его «музыка потери». Эта «Пасторальная симфония», с ее имитацией птичьего крика, показа-
1 Простая и фривольная девушка.
2 Чуть болезненная, томная, «изнеженная» грация (ит.).
187
лась ей ребяческой. Она слушала сквозь скуку. На самом деле она не слушала, она не могла слушать. Худшая музыкеттка укачала бы ее грезы так же хорошо.
Косталь пригласил ее назавтра в ресторан. Это был крошечный двадцатифранковый кабачок. Они беседовали только о литературе. Сжатая со всех сторон обедающими, она не осмеливалась говорить о самом сокровенном.
Добавим, что она почти не испытывала в этом потребности. Она приехала в Париж на месяц: у нее было время. А кроме того, рядом с ним она пребывала только в состоянии полной гармонии, которая делала их, как ей казалось, братом и сестрой (она часто возвращалась к выражению «брат и сестра»; все же сейчас думала: «Байрон и Августа», а это еще один нюанс). Умиротворение, блаженство, чувство безопасности, раскованность… Ощущение ненужности слов и восхитительное чувство одиночества, даже более острое, чем наедине с собой.
Она удивлялась, что не испытывает волнения. Это, думала она, благодаря духовной близости, более сильной, чем любовь, и выше ее. А еще потому, что с тех пор, как она получила шутливое письмо Косталя, старалась играть в мужскую дружбу, в границах которой он желал оставаться, и подавлять волнение. Она даже не желала принимать от него ни одной из целомудренных ласк, которые нравятся девушкам, разве что поцелуй руки. Тем более, что это казалось не выражением любви, а, скорее, излиянием благодарности, словно ей не хватало слов, или она не осмеливалась или не знала что сказать.
Он ни разу не остановил на ней взгляд, смотрел поверх ее головы; она этого не замечала. Впрочем, он всегда смотрел внимательно только на тех, кого желал.