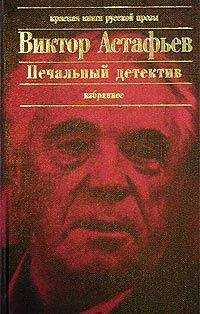— Вот вы, — обратилась она к деловито спокойному, цену себе знающему зэку, — вот вы грабили людей, обворовывали квартиры… Думали ли вы о своих жертвах?
— Начальник! — усмехнулся зэк, обращаясь к Сошнину. — Ты зачем меня обижаешь? Я достоин более тонкого собеседника.
— Но ты все-таки ответь, ответь. А то мы посчитаем, что виляешь.
— Я-а?! Виляю! Еще раз обижаешь, начальник. — И с расстановкой, дожидаясь, чтоб журналистка успела записать объяснения, валил откровенность свою: — Если б я умел думать о жертвах, я б был врачом, агрономом, комбайнером, но не вором! Записали? Та-ак. Дарю вам еще одну ценную мысль: если б не было меня и моей работы, им, — показал он на Сошнина, — и им, им, им, — тыкал он пальцем на сторожевые будки, на Дом культуры, на баню, гараж, на весь поселок, — всем им нечего было бы кушать. Им меня надо беречь пуще своего глаза, молиться, чтоб воровать ненароком не бросил…
С этим все ясно. Этот весь на виду. Его будут перевоспитывать, и он сделает вид, что перевоспитался, но вот как понять пэтэушников, которые недавно разгромили в Вейске приготовленный к сдаче жилой дом? Сами на нем практику проходили, работали, и сами свой труд уничтожили. В Англии, читал Сошнин, громят уже целый город! Неподалеку от задымленного, промышленного Бирмингема был построен город-спутник, в котором легче дышать и жить. И вот его-то громят жители, и кабы только молодые! На вопрос: «Зачем они это делают?» — всюду следует один и тот же ответ: «Не знаю».
Сошнин много и жадно читал, без разбора и системы, в школе, затем дошел до того, чего в школах «не проходили», до «Экклезиаста» дошел и, — о, ужас! Если бы узнал замполит областного управления внутренних дел — научился читать по-немецки, добрался до Ницше и еще раз убедился, что, отрицая кого-либо и что-либо, тем более крупного философа, да еще и превосходного поэта, надо непременно его знать и только тогда отрицать или бороться с его идеологией и учением, не вслепую бороться, осязаемо, доказательно. Ведь как говорил русский ученый: «Искать что-либо, хоть теорию относительности, хоть грибы, искать, не пробуя, нельзя». А Ницше-то как раз, может, и грубо, но прямо в глаза лепил правду о природе человеческого зла. Ницше и Достоевский почти достали до гнилой утробы человечишки, до того места, где преет, зреет, набирается вони и отращивает клыки спрятавшийся под покровом тонкой человеческой кожи и модных одежд самый жуткий, сам себя пожирающий зверь. А на Руси Великой зверь в человеческом облике бывает не просто зверем, но звериной, и рождается он чаще всего покорностью, безответственностью, безалаберностью, желанием избранных, точнее, самих себя зачисливших в избранные, жить лучше, сытей ближних своих, выделиться среди них, выщелкнуться, но чаще всего — жить, будто вниз по речке плыть.
Месяц назад, в ноябрьскую уж мокропогодь, привезли на кладбище покойника. Дома, как водится, детки и родичи поплакали об усопшем, выпили крепко — от жалости, на кладбище добавили: сыро, холодно, горько. Пять порожних бутылок было потом обнаружено в могиле. И две полные, с бормотухой, — новая ныне, куражливая мода среди высоко-оплачиваемых трудяг появилась: с форсом, богатенько не только свободное время проводить, но и хоронить — над могилой жечь денежки, желательно пачку, швырять вослед уходящему бутылку с вином — авось похмелиться горемыке на том свете захочется. Бутылок-то скорбящие детки набросали в яму, но вот родителя опустить в земельку забыли. Крышку от гроба спустили, зарыли, забросали скорбную щель в земле, бугорок над нею оформили, кто-то из деток даже повалялся на грязном холмике, поголосил. Навалили пихтовые и жестяные венки, поставили временную пирамидку и поспешили на поминки.
Несколько дней, сколько — никто не помнил, лежал сирота-покойник в бумажных цветочках, в новом костюме, в святом венце на лбу, с зажатым в синих пальцах новеньким платочком. Измыло бедолагу дождем, полную домовину воды нахлестало. Уж когда вороны, рассевшись на дерева вокруг домовины, начали целиться — с какого места начинать сироту, крича при этом «караул», кладбищенский сторож опытным нюхом и слухом уловил неладное.
Это вот что? Все тот же, в умиление всех ввергающий, пространственный русский характер? Или недоразумение, излом природы, нездоровое, негативное явление? Отчего тогда молчали об этом? Почему не от своих учителей, а у Ницше, Достоевского и прочих, давно опо чивших товарищей, да и то почти тайком, надо узнавать о природе зла? В школе цветочки по лепесточкам разбирали, пестики, тычинки, кто чего и как опыляет, постигали, на экскурсиях бабочек истребляли, черемухи ломали и нюхали, девушкам песни пели, стихи читали. А он, мошенник, вор, бандит, насильник, садист, где-то вблизи, в чьем-то животе или в каком другом темном месте затаившись, сидел, терпеливо ждал своего часа, явившись на свет, пососал мамкиного теплого молока, поопрастывался в пеленки, походил в детсад, окончил школу, институт, университет ли, стал ученым, инженером, строителем, рабочим. Но все это в нем было не главное, поверху все. Под нейлоновой рубахой и цветными трусиками, под аттестатом зрелости, под бумагами, документами, родительскими и педагогическими наставлениями, под нормами морали ждало и готовилось к действию зло.
И однажды отворилась вьюшка в душной трубе, вылетел из черной сажи на метле веселой бабой-ягой или юрким бесом диавол в человеческом облике и принялся горами ворочать. Имай его теперь милиция, беса-то, — созрел он для преступлений и борьбы с добрыми людьми, вяжи, отымай у него водку, нож и волю вольную, а он уж по небу на метле мчится, чего хочет, то и вытворяет. Ты, если даже в милиции служишь, весь правилами и параграфами опутан, на пуговицы застегнут, стянут, ограничен в действиях. Руку к козырьку: «Прошу вас! Ваши документы». Он на тебя поток блевотины или нож из-за пазухи — для него ни норм, ни морали: он сам себе подарил свободу действий, сам себе мораль состроил и даже про себя хвастливо-слезливые песни сочинил: «О-пя-ать по пя-а-а-атни-цам па-айдут свида-а-ания, тюрь-ма Таганская — р-ря-адимай до-о-о-ом…»
В Японии, читал Сошнин, полицейские сперва свалят бушующего пьяного человека, наручники на него наденут, после уж толковище с ним разводят. Да город-то Вейск находится совсем в другом конце Земли, в Японии солнце всходит, в Вейской стороне заходит, там сегодня плюс восемнадцать, зимние овощи на грядках зеленеют, здесь минус два и дождище льет, вроде бы целый век не переставая.
Сошнин помочил голову под краном, тряхнул мокром во все стороны — некому запрещать мокретью брызгать — тоже полная свобода! Закрыл кран, поставил кастрюлю с курицей на плиту, пригладил себя руками по голове, будто пожалел, вытянулся на диване, уставился в потолок. Тоска не отпускала. И боль терзала плечо, ногу. «Могли ведь и поуродовать, добить, засунуть под лестницу… Такие все могут…»
Патрулировали Сошнин с Федей Лебедой по городу, и бог дал угонщика. Пьяный, как потом выяснилось, только что с Крайнего Севера прибывший с толстой денежной сумой «орел» нажрался с радости, подвигов захотелось — и увел самосвал. Возле вокзала, на вираже вокруг клумбы, будь она неладна, — на площади срубили тополя, по новой моде закруглили клумбу, воткнули в центре пяток ливанских елей, навалили бурых булыжин, посадили цветочки, и сколько уж из-за нее, из-за этой, вейскими дизайнерами созданной эстетики, народу пострадало: не удержал машину угонщик, зацепил остановку, двух человек изувечил, одного об будку убил и, вконец ошалев, запаниковал, ослеп, помчался по центральной улице, на светофоры, в мясо разбил на перекрестке молодую мать с ребенком.
Угонщика преследовали всей милицией, общественным транспортом, «отжимали» от центра города на боковые улицы, в деревянную глушь, надеясь, что, может, врежется в какой забор. На хвосте угонщика висели Сошнин и Федя Лебеда, загнали было дикую машину во двор, угонщик заметался по песочному квадрату, в щепу разнес детскую площадку — хорошо, детей не было в тот час во дворе. Но уже на выезде сшиб двух под руку гулявших старушек. Будто бабочки-боярышницы, взлетели дряхлые старушки в воздух и сложили легкие крылышки на тротуаре.
Сошнин — старший по патрулю — решил застрелить преступника.
Легко сказать — застрелить! Но как это трудно сделать. Стрелять-то ведь надо в живого человека! Мы запросто произносим, по любому случаю: «Так бы и убил его или ее…» Поди вот и убей на деле-то.
В городе так и не решились стрелять в преступника — народ кругом. Выгнали самосвал за город, все время крича в мегафон: «Граждане, опасность! Граждане! За рулем преступник! Граждане…»
Выскочили на холм, миновали последнюю городскую колонку. Приближалось новое загородное кладбище. Глянули — о, ужас! Возле кладбища сразу четыре похоронные процессии, и в одной процессии черно народу — какую-то местную знаменитость провожают. За кладбищем, в пяти километрах, — крупная строительная площадка, что мог здесь наделать угонщик — подумать страшно. А он совсем обалдел от скорости, жал на загородных просторах за сто километров.