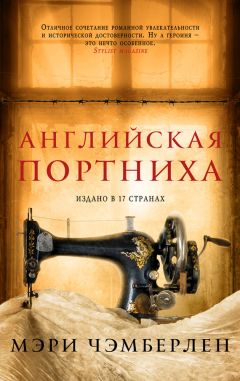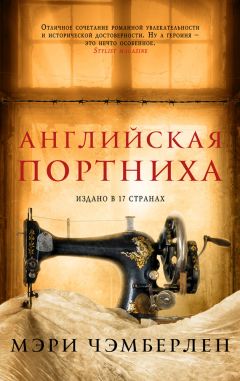Станислас скрипнул стулом, поставил локти на стол и наклонился к Аде. С наморщенным лбом он выглядел совсем мрачным.
– Дело в том, Ада, – начал он, – что я не могу вернуться. Меня арестуют.
Ада медленно, с трудом вдохнула. Говорила же ей миссис Б., всякое разное говорила. Миссис Б. предупреждала ее и об этом тоже, поправила себя Ада. Нельзя терять контроль над собой, особенно сейчас: а вдруг Станислас объявит, что им придется расстаться? Я ошибся в тебе.
– Но за что? – спросила Ада. – Ты ведь не немец. А знать немецкий – не преступление.
– Австрия, Венгрия, мы теперь все враги.
Ада сложила руки на коленях, повертела дешевое колечко на пальце, вправо, влево, вправо, влево. Положение у нее не позавидуешь. Она должна возвращаться домой одна. Но удастся ли ей, сумеет ли она отыскать нужный поезд? По радио сделают объявление, а она ничего не поймет. Дома на Южной ветке такое постоянно бывает: «Поезд до Бродстера в 9.05 отправляется с другой платформы… Приносим наши извинения». Она застрянет. Посреди чужой страны, одна-одинешенька, не зная французского. И даже если доедет до Кале, как попадет на паром? А вдруг паромы уже не ходят? Что она тогда будет делать?
– Что ты будешь делать? – тонким, срывающимся голосом спросила она.
– Обо мне не беспокойся. Я справлюсь.
День клонился к вечеру. Подошел официант, указал на их чашки:
– Fini?[5]
Ада не поняла, но помотала головой, лишь бы только официант оставил их в покое.
– Encore?[6]
Она опять не поняла, однако на этот раз кивнула.
– Я не могу покинуть тебя, – сказала она. – Останусь с тобой. У нас все будет хорошо. – На миг ей привиделось, как они гуляют по Тюильри рука в руке.
Станислас колебался.
– Беда в том, золотко… – заговорил он медленно, запинаясь, и даже акцент куда-то пропал, к удивлению Ады, привыкшей к огрехам в его произношении, – беда в том, что у меня нет денег. В данный момент нет. Из-за войны я не смогу телеграфировать, чтобы мне их выслали.
Ада не в состоянии была вообразить Станисласа без денег. У него всегда находился фунт-другой, да что там, он сорил деньгами. Их бедность – это не надолго, верно? И в любом случае бедность в Париже со Станисласом не то что бедность в Ламбете. Она вдруг испытала прилив нежности, любви к этому человеку, вскружившему ей голову, и ей стало тепло, уютно, и в будущее она уже смотрела с оптимизмом.
– С деньгами мы разберемся, – заявила она. – Я пойду работать. Я позабочусь о нас.
Опять появился официант с двумя чашками кофе, поставил их на стол и сунул счет под пепельницу.
– L’addition, – сказал он и добавил: – La guerre a commencé[7].
Станислас вскинул голову.
– Что он говорит? – спросила Ада.
– Что-то насчет войны. «Герр» по-французски «война».
Официант встал по стойке смирно:
– La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne[8].
– Началось, – сказал Станислас.
– Ты уверен?
– Конечно, уверен, черт возьми. Может, я и ни бум-бум во французском, но это я понял.
Он резко поднялся, толкнув столик и пролив кофе, сделал шаг в сторону, словно намереваясь уйти, но вернулся и снова сел:
– Ты останешься со мной? Здесь, в Париже? Устроимся на работу, ты и я. Скоро мы опять разбогатеем.
Минуту назад Ада не сомневалась, что все так и будет, но внезапно ее охватила паника, страх сдавил желудок. Война. Война. Ей отчаянно захотелось домой. Очутиться в кухне вместе с родителями, братьями и сестрами, вдыхать терпкий запах белья, сохнущего над плитой, слушать, как булькает картошка в кастрюле, а мать перебирает четки и смеется, когда отец ее поддразнивает: «Славься, Маркс, великий и могучий, да пребудет революция с тобой, да благословен ты будешь среди рабочего класса…»
Но домой пути нет; по крайней мере, в одиночку она этот путь не найдет. Ада кивнула.
– Ты не против, – продолжил Станислас, – если я назовусь Воан?
– Зачем?
– Моя фамилия слишком иностранная. Французы тоже могут меня изолировать.
– Пожалуйста, называйся.
– От своего паспорта я избавлюсь, – Станислас говорил быстро, почти без пауз, – скажу, что потерял его. Или украли. И тогда я смогу стать кем угодно. – Он засмеялся, и в вечернем солнце блеснул золотой зуб. Пошарив в карманах, он расплатился с официантом мелкой монетой и взял их багаж: – Идем.
– Куда?
– Нам нужно где-то жить.
– Гостиница, – оживилась Ада. – Мы вернемся в гостиницу.
Станислас обнял ее, потерся подбородком о ее макушку:
– Там все занято. Я их спрашивал утром. Найдем что-нибудь. Прелестный маленький пансион, например.
В комнате кровать с ржавой железной рамой и продавленным матрасом с бурыми пятнами мочи, напротив крошечный облезлый стол, стул с дыркой в сиденье, крючки на стене. Обои ободраны, но не до конца – по углам и над плинтусами они держались крепко, а под ними шуршали либо дрыхли клопы.
– Я не могу тут жить. – Ада с чемоданом шагнула к двери. Станислас никогда не был беден и не понимал, как низко они пали.
– И куда ты пойдешь? – поинтересовался он. – Без денег. В гостиницах все занято. Армия реквизировала их. – Он сел на кровать, подняв облачко пыли. – Иди ко мне, – с обезоруживающей нежностью позвал он. – Это только пока мы снова не встанем на ноги. Обещаю.
Они найдут работу, их положение улучшится. Ада уже через такое проходила и пройдет еще раз.
– Чем ты займешься? – спросила она. – Какую работу будешь искать?
– Не знаю, – пожал он плечами. – Я не привык работать.
– Не привык работать?
– Не было необходимости.
Она и забыла, ведь он граф. Ну да, графы же не работают. Как лорды и леди. Паразиты проклятые, так отзывался о них ее отец. Жиреют за счет бедняков. Ада вдруг увидела Станисласа в ином свете: чужак совсем из другого мира. Она подметила и кое-что еще: он был растерян, не знал, куда податься. Наивный и неопытный, она же – уличная девчонка, знающая все ходы и выходы. Аде стало его жалко. И словно наяву, услышала возмущенный голос отца: Жалко? Думаешь, тебя они пожалеют? Как бы не так. Жалел русский царь своих крестьян? И получил по заслугам, черт его дери.
Ада встала. На ней все еще было платье в косую полоску. Платье слегка помялось, но Ада разгладила его ладонями и выудила из сумочки губную помаду. Подкрасила губы, слизнула лишнее.
– Я скоро вернусь. – Пора ей брать ответственность на себя. Она знала, куда идти.
В первом же заведении ее взяли на работу. Ада не могла поверить своему счастью. Но, сдается, такой уж она уродилась – везучей. Платили немного, но без дела она не простаивала. Предприятие мсье Лафитта процветало. Торговля оптовая, розничная и пошив одежды. Мсье Лафитт был благожелательным человеком средних лет, он напоминал ей Исидора. Говорил он быстро, но ради Ады замедлял речь и тратил время, помогая ей выучить французский. Ада заняла место подмастерья, который ушел добровольцем в армию; в одиночку мсье Лафитт не справился бы. Ада жаждала создавать новые модели и порою предлагала изменить форму воротника или разрез кармана, но каждый раз встречала отпор. Мсье Лафитт, насупившись, грозил ей пальцем: non. Нет.
Спустя неделю они со Станисласом переехали из вонючей комнатенки в небольшую мансарду на бульваре Барбе, в лучшей его части и ближе к месту работы Ады. Благодаря мсье Лафитту и консьержке, мадам Бретон, Ада пусть коряво, но заговорила по-французски, ей даже удавалось объясниться с клиентами.
Не верилось, что идет война. В городе было тихо, и оттого война казалась выдумкой, хотя на улицах, в барах и кафе солдат только прибывало. Здания по углам обкладывали мешками с песком, а в парках и на площадях строили бомбоубежища. Мужчины и женщины ходили с противогазами, перекинутыми через плечо.
– Даже проститутки, – отметил Станислас. – Интересно, как они занимаются своим ремеслом с этими штуковинами на головах?
Им противогазы не выдали, но Станислас раздобыл парочку, а когда принес их в мансарду, постучал пальцем по ноздре, мол, не спрашивай, где достал.
– Дельце образовалось, – только и сказал он.
Ада любила его, любила его таинственность, и обаяние, и странный акцент, что иногда сгущался, а иногда рассеивался в зависимости от того, насколько спокоен или взволнован был Станислас.
Время от времени завывала сирена, но ничего не происходило, а по ночам окрестности накрывала беспросветная тьма. Ткани становились дефицитом, по крайней мере хорошие ткани, и Ада теперь кроила одежду более облегающую и меньшей длины и на швы оставляла впритык.
– Чем ты занимаешься целый день, пока я на работе?
Они сидели в «Бар дю спорт». За два месяца в Париже они сделались завсегдатаями этого бара и, прежде чем съесть ужин, обязательно выпивали по бокалу красного вина. До коктейлей в «Смитсе» этой выпивке было далеко, и тем не менее, отправляясь ужинать, Ада старалась принарядиться. Мсье Лафитт позволял ей забирать остатки и обрезки, и, спасибо новой моде на простые фасоны и укороченные подолы, Ада соорудила вполне презентабельное теплое платье на выход, не считая нескольких повседневных юбок и блузок. А когда мсье Лафитт отдал ей старую одежду, принадлежавшую, по его словам, его дяде, ныне покойному, Ада перешила ее для Станисласа. Мадам Лафитт одарила ее слегка поношенным зимним пальто, и Ада приспособила его для себя. Станисласу не помешал бы новый пиджак, и мсье Лафитт намекнул, что, возможно, ему перепадут излишки армейской ткани. В общем, они сводили концы с концами, да и у Станисласа опять завелись деньги.