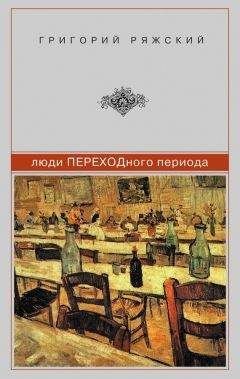И вот с этого момента — потом уже я прикинул и сошлось — оставалось примерно девятнадцать минут оргазма, того самого, творческого, помните, о чём я? Восемь минут съела прелюдия, но тоже чрезвычайно сладкая, и потому я её, бесспорно, записываю туда же, в тело самого оргазма. Плюсую, так сказать. Короче, остаток в девятнадцать минут, оставаясь на стуле, — кстати, тикового дерева, грубой фактуры, с живым червоточением, колониальный стиль, юго-восточная Азия, ближе к Индонезийским островам, — сидел, откинувшись, прикрыв веки, вслушивался в работу миокарда, ловил импульсы жужжания семенников, голова отсутствовала напрочь, тело оставалось в свободном полёте, подчиняясь ритмичным толчкам счастья, изливающегося изнутри на всё тот же сталинский паркет, обильно и неостановимо, как после освободительного укола, действие которого, кажется, будет вечным и незачем думать о другом, другое — за окном, в иной реалии, не важной, не столь прекрасной и потому ненужной…
На двадцатой минуте я закрыл окно, потому что потихоньку начал ощущать первый дискомфорт. Кожа приобрела свойственную для прохладной среды гусиную пупырчатость и плавно перетекла в привычный телесный колер. Член обмяк, утратив арт-нуво, и вновь занял свой привычный объём в стиле малоудобной для жизни висюльки, о которой вспоминаешь разве что когда… Ну и в описанном случае, само собой.
Дальше было тоже славное ощущение, но уже носящее рабочий, скорее даже ремесленнический характер. Пришла пора оценить то, что получилось, но уже не под градусом приступа, а не спеша, прицельно, вдумчиво. Вырывал, помню, из рассказа любое предложение, на которое в хаотической пробе натыкался глаз, и выкладывал перед собой, на личную неподкупную экспертизу. Для начала окидывал взглядом завершённую фразу, всю, целиком, по всей её длине, от заглавной буквы и до точки, прикидывая получившийся вес, объём, смысл и содержание. Потом шёл дальше, если препятствия для дальнейшего продвижения не обнаруживались. Брал на зубок каждое слово, в очередь, испытывал на вкус, на цвет, на звук, на рецептор нёба и языка, на густоту и скорость отделяемой слюны, на точность попадания в единственно предназначенное ему место в предложении. Мысленно передвигал слова внутри ограниченного пространства: отводил какое-то левей, а то брал чуть вправо, но не слишком, то менял само слово, находя замену лучше, добиваясь полного подчинения собственной дрессуре, и вновь смотрел на это сверху, падающим с высоты вниз горным беркутом, напряжённо следящим, как поведёт себя добыча. Затем неторопливо, ловя едва заметные колебания воздушной среды, проговаривал обновлённую фразу вслух, с выражением и расстановкой: сначала нарочито копотливо, затем быстро, разом, чтобы ненароком ощутить укрывшуюся фальшь. Но это после того, как уже поработал над фразой предметно. Ближе к финалу вслушивался уже в музыку самих слов, вылавливая мелодику и предвкушая развитие темы в целом. Дирижировал невидимым оркестром, водя незримой волшебной палочкой, и, чувствуя, что приближаюсь к развязке, давал уже заключительную отмашку, обозначая коду…
Обо всём об этом, пытаясь не упустить детали, вечером я рассказал вернувшейся на Фрунзенскую Инке. Всё же, как бы там ни говорили, волшебник колдует палочкой, а волшебница дырочкой. А в финале изложения добавил, что, насколько мне известно, к сообществу по-настоящему творческих людей, если брать вообще, в целом, относится не более пяти процентов населения планеты. А состояние творческого оргазма, как мне тоже вспомнилось в тот день, удаётся испытать лишь пяти процентам от тех пяти. То есть если освежить арифметику, то имеем одну оргазмистически творческую единицу на целых четыреста рядовых безоргазменных человеческих особей. Чукч-читателей. Потребителей продукта творцов. Ну и как тебе мои подсчёты?
Она внимательно выслушала меня, не перебивая, потом немного подумала и спросила:
— Митенька, а почему ты уверен, что собственные оценки личного творчества носят объективный характер? Я сейчас не о тебе, в частности. Я — вообще, в принципе.
Это меня удивило:
— Постой, но я совершенно уверен, что каждый человек, обладающий реальным творческим потенциалом, создающий собственный продукт, всегда очень точно знает ему цену. Другое дело, не всегда это открыто декларирует, сомневается, мучается, мечется, скрывает истинное положение дел в личном хозяйстве. Но себя, в конце концов, обмануть просто невозможно. Кто-то изнутри обязательно выскажется насчёт сделанного тобой же, ковырнёт в печень или саданёт в прямую кишку. Рано или поздно. Как правило, это происходит без особой задержки. И то, что имело место со мной сегодня, лишний раз это доказывает. Да, я не просёк поначалу то, что сам же и сотворил. Но прошло время, и я пришёл к пониманию добротности и качества моей работы — к тому, что мне удалось вскрыть в моём же чудесном рассказе глубокую суть важных вещей, первоосновных, если угодно, и созрел, как видишь, для попадания в алгоритм 1/400. Хотя гораздо лучше было бы заслуженно принадлежать к сообществу, скажем, 1/10 000. Но для этого нужно научиться писать так, чтобы тебя помнили и не забывали никогда. И хорошие люди, и сволочи.
Инка улыбнулась:
— Это верно подмечено, с чем-чем, а с этим не поспоришь. И всё же, Мить, ну смотри я о чём. Пушкин воскликнул, что гений, что сукин сын, да? Достоевский, наверное, тоже не слишком сокрушался по поводу своих текстов. И любой графоман, и самый бесталанный и безнадёжный импотент, проставив в финале точку, возносится от радости к небесам, так же как и Александр Сергеевич, и полагает при этом, что и он тоже сукин сын, и не меньше чем сам светоч русской поэзии. То есть получается, что творят все по-разному, а наслаждаются сотворённым одинаково равно. Плюс-минус. Оргазм, о котором ты так хорошо мне поведал, выходит, имеет свойство распространяться не только на них… — она замялась. — Я имею в виду, на вас, подключённых к небу людей, явно и неоспоримо одарённых, а ещё и на тех блаженных, кто не научился самокритично оценивать продукт своего интеллекта. И таких, как они, мне кажется, подавляющее большинство. Кварталы и целые города.
— И вывод? — насторожился я тогда, уязвлённый внятным Инкиным раскладом.
— Вывод простой, Митюш, — улыбнулась моя девушка, — творческий продукт должен быть обращён не ко всему человечеству разом, в недрах которого можно легко потерять ориентиры и заплутать, а быть направлен прицельно, к конкретным адресатам, чьим мнением дорожит непосредственно автор. Включая самого себя лишь отчасти. И чем меньше количество умных экспертов, которых ты, кстати, желательно должен любить, тем ценней для автора результат. Иначе — запутаешься. Собьют с маршрута, точка отсчёта потеряется.
Ту дискуссию я тогда решил активно не развивать, хотя мне стало совершенно ясно, что после этого разговора первейшим и главным экспертом моих трудов становится непосредственно Инка, будущая жена и друг. Тем более что никто другой, кроме неё, не просматривался больше вообще. Ну нет у невротиков друзей, тех самых, правильных, расположенных к тебе не в силу обстоятельств, а по душе, по зову из кишок, тех, у кого надёжная голова на плечах с подпадающим под моё творчество великодушием, искренним доброжелательством и избирательным складом ума. Тех, у кого извечно сухая жилетка и, кроме того, кроткий и незлобивый характер тоже всегда при себе.
Поэтому в тот день я просто мотнул головой в сторону ближайшей неопределённости: мол, подумаю на досуге над твоими словами, Инусенька. И стал снимать с неё одежду. Тут же, в кабинете, на ампирном диванчике, недавно отреставрированном в мосфильмовских мастерских и перетянутом за полцены куском испанского мебельного гобелена, купленным мною по случаю на Тишинской толкучке у одной старомосковской бабки с явными признаками ещё не выветрившихся остатков породы на лице. Поэтому обошлось дешевле.
Потом, года через полтора, история повторилась. В день, когда я закончил повесть «Нокаут». Тоже неизданную — и тогда, и вплоть до сегодняшнего дня. Сначала не брали, потом было не до неё. А когда стало можно, сам уже не захотел печатать. Подумал: потом, позже, сейчас собьёт мне имидж. Но прошёл, хорошо помню, через те же самые двадцать семь минут счастливой разрядки, включая восемь минут предоргазменной прелюдии. Поплакал, конечно, но уже не так истерично, как в первый раз. И семенники уже не до такой степени надрывно жужжали, вырабатывая живой оплодотворяющий сок. Но всё равно весьма сильно запомнилось, до чрезвычайности: и ломкой судорогой, и буйством красок, и ярко выраженным послевкусием. Короче, каждому желаю. То есть я хотел сказать, не желаю никому. Тем более что после второго случая в этом специальном смысле как отрезало…
Не буду подробно описывать, как хоронили Инку, как на моих глазах перекладывали её маленькое тело из цинкового гроба в человеческий, деревянный, с идиотским кружевом навыпуск по всему периметру. Как убивалась, рыдая, моя дочь, когда об ящик с Инкой грохнулся первый ком востряковского кладбищенского грунта и вслед за ним стали разбиваться остальные, медленно, чтобы специально натянуть мне нервы до предела, покрывая Инку землёй. Так, как она и хотела. Без чёрного дыма и первой из нас. И как потом, когда всё закончилось, когда любимая Инка обратилась в ничто с отлетевшей душой, когда отгуляли поминки и горькие слова немногочисленной родни растаяли и вновь сделались обычным воздухом, частью призрачной памяти, мы сидели с Никуськой одни у меня в кабинете, на гобеленовом диванчике, моём любимом, прижавшись друг к другу, и плакали, но уже тихо, не навзрыд, держась за руки, не расцепляя ладоней, чтобы ещё крепче сплотить нашу маленькую дружную семью, которая вот-вот должна была прирасти ещё одной мужской единицей. Но не успела. Так больше всех хотела Инка, так хотели и мы с моей рано повзрослевшей дочерью. А Нельсон, чуявшая неприятности за версту, как-то притихла, забилась под письменный стол и оттуда напряжённо контролировала нашу общую беду, прикидывая для себя возможные последствия. И они стали для неё воистину удивительными. Начиная с этого злополучного дня, Нельсон перестала приносить в подоле котят. Так перенервничала, вероятно. Либо кошачий организм, теперь уже в отсутствие Инки, научился каким-то образом самоуничтожать плоды в зародыше. Либо пришедшее в дом горе навсегда отбило у Нельсон охоту получать кратковременные удовольствия от случайных встреч на крыше нашего дома. Не знаю, конечно, точней не скажу. Но теперь это было так.