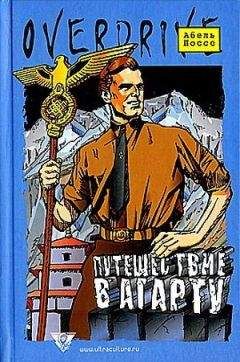Да, подумал я, но эта спесь бесстрашных полководцев сделала вас, смертных королей, бессмертными.
Еще раз воцарилось глубокое молчание, нисколько не стеснявшее собравшихся придворных. Очевидно, император, хотя и полулежал, был не способен справиться с накопившейся усталостью. Этот монастырь-дворец не имел теперь другого предназначения, нежели быть кровом для великой смерти, соразмерной с великой жизнью. Говорят, что император, прибыв в это уединенное место, почувствовал, что умирает. Об этом напоминает ему стук секундной стрелки металлических часов, как бы говоря: слушай меня, как погребальный звон, и зловонный запах изо рта, мучающий его уже двадцать лет. Это знаменитое «дыхание больного льва», как писал Контарини, наглый венецианский посол (не так дурно то, что он это написал, ибо шпионство, как известно, занятие послов, а дурно то, что его наглость стала известна во всех дворах Европы).
Император живет со своей смертью. Вчера один монах мне рассказал, что он уже попробовал справить заупокойный молебен по себе. Даже попросил, чтобы ему помогли лечь в гроб, поставленный, как обычно, перед алтарем. Словно жаждая смерти, он улегся и задремал, усыпленный похоронным пеньем монахов. Гроб у него поистине императорский, обитый внутри мягким китайским шелком абрикосового цвета. Император живет — или умирает, — уже одолеваемый той опасной меланхолией, что помутила разум стольким членам его рода, бабушке и его матери Хуане.
— В столице идет слух, что та хранишь важную тайну, желая открыть ее только мне или королю, моему сыну…
Я тупо смотрел в пол. Слышалось усыпляющее тиканье часов, тихое журчанье фонтанов, сипенье воздуха, проходившего через мокроту императорских легких. Любопытство его было столь же слабым, как чуть теплившаяся в нем жизнь. Говорить ли ему о Семи Городах из глины и навоза? Рассказывать ли о посвящениях и вторых рождениях? О моей секретной хронике? Уже поздно, по крайней мере для него. Император понял, что мне нечего ему ответить.
— Ты пострадал, я знаю, но мы тебе это более или менее возместили… Надеюсь, тебе дали приличную должность, не так ли? Хочешь ли ты меня еще о чем-либо попросить?
Мой демон подсказал мне просить восстановления ad honorem[52] титулов аделантадо и генерал-капитана. Но я отстранил искусителя, едва он сунулся со своим советом. Мне не о чем просить императора.
Моя жизнь у всех на виду, даже враги мои во мне не сомневались — ни Ирала[53], ни его сожительницы, ни этот ничтожный Алонсо Кабрера, мой мучитель, который сошел с ума и лизал мне ноги в трюме, где меня держали в кандалах.
Поздно было говорить о чем бы то ни было.
— Совершенно не о чем, Ваше Величество, — сказал я.
Самый могущественный человек на земле со времен Августа и Траяна удовлетворил свое легкое любопытство по отношению ко мне, одному из нас. Ему вздумалось вспомнить меня, он послал за мной, а когда я приехал, он уже утратил интерес…
Самый могущественный человек был не способен делать то, что делает любой ребенок: бегать, смеяться, прыгать, ненавидеть, любить. Я удалился, пятясь задом, как положено. Я не испытывал никакой обиды за его долгое равнодушие. Скорее было во мне некое понимание его, словно я вдруг стал отцом моего отца.
Заполняю эти страницы у окна, что смотрит на Хиральду. Император в Юсте скончался, и колокола бьют мрачным, хриплым аккордом. Из патио Алькасара[54] доносится бой барабанов, обтянутых черной тканью. Город затих, будто жизнь в нем остановилась. С Карлом Севилья была caput mundi[55]. Император умер в первый день осени, которая для всей Испании наверняка будет очень-очень долгой.
Он был великим протагонистом вечной комедии, которую разыгрывали мы, комедианты средней руки. В каждом поколении нас связывает братское чувство, оттого что мы выступаем на тех же подмостках, несмотря на различие и противоположность ролей: удачливый конкистадор Кортес, грозный Писарро и его братья, отец и сын Альмагро, Орельяна, Альварадо; Понсе де Леон, отправившийся искать волшебство вечной молодости. И Атауальпа, и Моктесума, несчастные, растерявшиеся правители, понявшие смысл «цивилизации», когда их повели на казнь и обезглавили. Они тоже были протагонистами бесконечного представления.
И конечно же, я, путник, который, уже не владея крепкими ногами, движется по этим страницам, белым, новым, вечным.
Сегодня не кажется голубым небо, на фоне которого вырисовывается Хиральда, богиня, дочь другого бога, столь же грозного, как наш.
Я БЫЛ ГОЛЫЙ КОНКИСТАДОР, ПЕШЕХОД. Из всех кораблекрушений, о которых я рассказал без стыда и хвастовства, одно было решающим — благодаря ему я превратился в нищего пешего конкистадора. Случилось это 5 ноября у злосчастных берегов Мальадо.
Сошлись бесы, чтобы поиздеваться надо мной, чтобы поиграть со мной своими водяными лапами, как кот с мышью, даже не удостоив меня гибели. Бесы воды, игривые и коварные.
Быстро, энергично, презрительно хлестали их водяные лапы. Наше судно, проконопаченное сосновой смолой и сколоченное самодельными гвоздями, разваливалось на этом празднестве бесов. Крики, мольбы, проклятия, обеты. Люди тонули. В последний раз появлялись над водой руки со скрюченными, словно когти, пальцами, пытающиеся ухватиться за воображаемую водяную веревку или за равнодушный край мантии Господа. Некоторым удавалось держаться за борт, они дрыгали оцарапанными, сломанными, кровоточащими ногами. Всеми силами тщились оттолкнуть суденышко от рифов.
To было хорошо знакомое мне враждебное море ночей кораблекрушения. Холодная, тяжелая, как расплавленная сталь, вода, с соленой пеной, взвивающейся, как смерч, как слюна хохочущего демона. (Ничего похожего на невинную, милую воду хорошей погоды.)
В ту холодную ноябрьскую ночь мы пытались спасти одежду, оружие, шлемы и кирасы, оставив их на судне. Там находилось все дорогое имущество воина из знатного рода, пустившегося, как Амадис[56], на поиски приключений по миру после прощанья с матерью на пороге усадьбы в Хересе.
Бесы урагана носились, скакали в ветрах. Быстрые волны, словно бичи, наносили резкие удары, пощечины. Голова кружилась, и я старался держаться над водой, чтобы не задохнуться. Нас будто терзало коварное чудовище — множество течений, сходящихся и расходящихся в коралловом лабиринте. Когда я заметил, что мне угрожает опасность разбиться о рифы, я, кажется, понял, что лучше отдаться на волю судьбы и во власть воды. Я увидел, как Паласиос борется с волнами голый — панталоны его комично спустились до пяток, как будто Вельзевул решил позабавиться. Накатившаяся волна подняла меня и опустила, потащила за собой и выбросила наверх. Она содрала с меня сорочку и даже повязку, закрывавшую рану от попавшей в меня стрелы. В полутьме я увидел, как разрушается наше судно, и ощутил непонятную радость, что приходит конец всему. Судно распадалось, как охапка дров, упавшая в поток, пошли на дно и мои первые доспехи. Они были изготовлены мастером во Флоренции, и моя мать наказала ему украсить нагрудник фамильным гербом. Часто воображаю, как там, в пучине Карибского моря, во мраке морской бездны лежит на дне этот металл, наверно, вечный, бесполезно вечный, потерявший перья гордого султана, как побежденный бойцовый петух, умерший, еще не успев атаковать.
Лапы воды швыряли меня вверх-вниз, как тряпичную куклу. В какой-то миг я расслабился, кажется, даже улыбнулся, и с этого мгновения все пошло по-иному. Я попытался присоединиться к празднеству бесов. Мне пришло в голову не сопротивляться их шабашу. Я понял, что вода теплее, чем воздух на рассвете, и мне даже почудилась в ней какая-то приятность. Я выплывал, увенчанный фосфоресцирующей пеной. Волею случая волны подняли меня вверх, чтобы затем выбросить на отлогий берег, а не на камни. Празднество бесов закончилось. Я свободно вздохнул среди округлой гальки, водорослей и ракушек. Я откусил клочок водорослей, и они показались мне приятными на вкус, потом раскрыл зубами несколько раковин сердцевидки и хорошо их разжевал. В те годы у меня еще были все зубы, все желания. До сих пор помню чувство радости, что я выжил, сумев без сопротивления сдаться бесовской пляске волн. Так чайки, не противясь ярости моря, противостоят ей.
Я был в одних исподних штанах среди беспредельной холодной звездной ночи.
Я лишился и одежды, и всего прочего. Море поглотило мой меч и крест.
На рассвете 5 ноября выяснилось, что нас осталось только четверо. Только четыре человека от могучего флота Нарваэса.
Да, то было настоящее кораблекрушение — я остался голый и без Испании.
Я не могу рассказать Лусинде о своих переживаниях так, как я это делаю, доверяясь перу в эти долгие спокойные дни странствия по бумаге. Но Лусинда заставляет меня вспоминать более или менее по порядку, следуя тому, что написано мною в «Кораблекрушениях». Мне все в них кажется эпизодическим, чисто внешним. Там только факты, как и надо писать для Трибунала Индий или дня императора (или для самой Лусинды, такой стыдливой девушки). Другие обязывают нас молчать. Истина требует одиночества и сдержанности, если не хочешь угодить на костер.