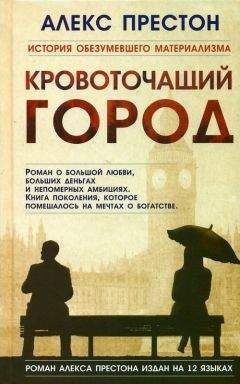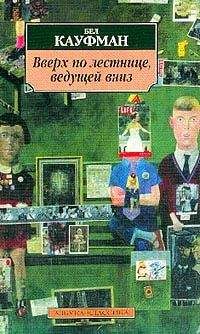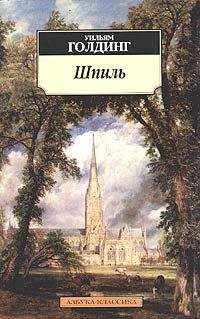Но разговаривал я с огнем, а Генри лежал, прижавшись к холодному камню пола. Губы — тонкие и бескровные, серые, на восковых щеках и лбу — какие-то грязноватые пятна. Он подтянул острые колени к груди, сжался в комок и стал похож на раненого солдата. Очнулись мы, когда над Темзой уже светало.
Огромные желтые краны цаплями нависали над рекой, перенося и опуская серебристо-голубые блоки. Мы с Генри сидели на скамейке в еще неверном свете, а мимо тянулись, закончив смену, усталые такси. Свалявшиеся листья мокли на земле, впитывая смытую ночным дождем грязь. Голову сдавили стальные тиски, за глазами пряталась боль, время от времени прорывавшаяся острыми выпадами в виски.
— Так кто они такие, Генри? На простых наркош не очень-то и похожи. Что тут вообще происходит?
Он закурил, передал мне сигарету. Закашлялся. Сухие хрипы синкопировали с накатом волн на набережную.
— Странно, что ты никого не узнал. Там и из Эдинбурга ребята были. Большинство из Оксфорда и Кембриджа. Ты, наверно, причисляешь их к неудачникам, бездельникам. Дело не в том, что они просто решили не работать. Тут еще много чего. Они упиваются молодостью. Я бы назвал их идеалистами. Сознательными уклонистами от этой жалкой войны за зарплату. Все обеспеченные, родители у всех — политики, банкиры, юристы. Все из приличных семей, но они увидели, с чем столкнулись и с чем смирились мы, и отказываются идти нашим путем. На мой взгляд, вполне разумная точка зрения. Они даже не стараются интегрироваться в эту… в эту великую трагедию, что мы называем жизнью. В основном тусуются здесь, принимают наркотики, занимаются сексом и разговаривают. Отец Конрада — крупный девелопер, эти арки отдал им во временное пользование, пока не решит, что с ними делать. Я бываю здесь так счастлив. По мне, это реальнее, чем наша жизнь дома.
Мы шли по южной стороне реки, бросая в воду все, что попадало под руку, — палки, камни, банки. Потом завернули в кафе на Бэттерси и попытались что-то съесть, но еда не лезла в глотку, мир уже утратил блеск, и я перестал дивиться цвету кожи на руках. Домой мы пришли молча. Серость наступившего дня раскрывалась над нами, словно устрица, в желтых пятнах от последних ночных фонарей. Я позвонил Баритону и сказался больным; тот воспринял мое сообщение о пищевом отравлении довольно холодно и недоверчиво. Я свалился на кровать, а когда очухался — ближе к ланчу и совершенно разбитый, — простыни отсырели от пота.
Я проработал в «Силверберче» уже семь месяцев, когда вдруг лихорадкой нагрянуло лето. Знойные июльские денечки перемежались проливными дождями, раскаленное добела солнце безжалостно выжаривало мозг, низвергавшиеся внезапно потоки мчались по Фулхэм-роуд, и одежда мгновенно промокала насквозь.
В один из уик-эндов я решил навестить родителей в Уэртинге. Я не был дома несколько месяцев, а с отцом не разговаривал с тех пор, как перебрался в Лондон. Нельзя сказать, что мы не были близки, но меня смущало их безнадежное мещанство, я не мог представить, что подумают Генри и Веро, увидев скромный домик, один из многих в ряду ленточной застройки, в квартале от берега, где прогуливались, разрабатывая изношенные суставы, пораженные артритом, женщины. Родители любили меня ненавязчиво и сдержанно, как какую-нибудь редкую, дорогостоящую орхидею, которую они вырастили и теперь скромно отступили, чтобы любоваться и восхищаться ею со стороны. Но я был слишком молод, чтобы, даже понимая это, каким-то образом выразить свою признательность.
Я винил отца за то, что не жил в замке у лазурного озера. Меня возмущало в нем отсутствие материализма, особенно из-за того, что именно этот недостаток причинял им немалый дискомфорт. Помню, как мать однажды спустилась к завтраку — зачесав высоко волосы, распространяя тот неприятный запах, что заводится под родительским одеялом. Мне было семнадцать. Угрюмый и блистательный, я жил в ту идеальную эпоху свободы, что занимает пространство между школой и университетом.
— Доброе утро, Чарлз, — заговорила она чуть замедленно усталым голосом. — Отец не спал всю ночь. Сидел на кровати, рассматривал свои старые визитки, переживал из-за денег. Я очень за него беспокоюсь.
Она покачала головой и лишь тогда заметила, что я смотрю в сторону лестницы, где, тяжело опершись на перила, стоит отец. Увидев, что мы повернулись к нему, он распахнул дверь навстречу солнечному утру и поспешно вышел из дому.
Когда-то давно отец сказал мне, что хотел бы больше детей, чтобы у меня был брат или сестра. Возможно, после этого откровения у меня появилось ощущение неадекватности и, как ни странно, одиночества. Но больше одного ребенка они позволить себе не могли, и ко времени моего появления на свет один бизнес — обучение навыкам презентации членов местного совета и коммивояжеров — уже пошел на дно. За первой попыткой последовала вторая: отец задумал издавать книги из серии «помоги себе сам», которые писал один его друг, постоянно на мели и частенько ночевавший в периоды своих разорений на нашем диване, скрываясь от суровой жены-испанки. Затяжное пребывание не у дел прерывалось короткими всплесками активности, когда отец писал заметки о джазе для «Ивнинг аргус» и статейки о Чехове. Мать преподавала географию в местной средней школе, что и позволяло семье вести жизнь в низах среднего класса, жизнь, которую мои родители когда-то отвергли, но теперь приняли.
Отпуск мы проводили обычно у моей тети, жившей на типично английской ферме в типично английской холмистой местности в Центральной Франции. Отец сидел по большей части в кресле-качалке и перечитывал рассказы — Джона Чивера, Уильяма Максвелла, Рэймонда Карвера. День шел своим чередом, солнце вставало, сияло и закатывалось, а он все сидел, почти неподвижно и лишь вытягивая ноги, когда ветерок начинал покачивать кресло. Мою тетю, свою сестру, он недолюбливал. В свое время она вышла замуж за богатого и больного страхового брокера, оставившего вполне достаточно денег, чтобы она позволила себе утолить давнюю страсть — создать в сердце Франции уголок сельской Англии 1950-х. Дни проходили в молчаливой, невысказанной зависти.
Мы с матерью играли обычно в пинг-понг и гуляли по холмистому плато, схожему с тем, что протянулось от Дорсета до Шотландии и Котсуолда, и не имевшему ничего общего с моим представлением о Франции. Теперь те прогулки видятся в ином свете — как нечто прекрасное, нечто, объединявшее нас с матерью. Тогда же мне не терпелось вырваться из-под ее опеки, и большую часть времени я проводил в своей комнате, растянувшись на полу и записывая в блокнот стихи и пьесы, которым предстояло — в этом я не сомневался — вывести меня на театральную сцену и телевизионный экран. Когда Эдинбург избавил меня наконец от тех летних каникул, я был готов целовать его улицы в знак признательности.
* * *
Машина в доме была только у меня одного — довольно потрепанный синий «поло», доставшийся мне от деда. До Брикстона компанию мне составила Веро, решившая навестить тамошнюю подругу. От солнца ее спасала огромная широкополая розовая шляпа. В последние недели Веро несколько набрала вес и сейчас выглядела веселее, чем зимой.
Генри собрался съездить к сестре в лечебницу и ушел из дома рано утром, когда светило солнце и тучи не успели собраться. К бездомным под аркой я с ним больше не ходил; он понял, что мне там не понравилось, что место это показалось мне грязным и жутким. Оставив прежний проект с бездомными, Генри готовил теперь репортаж о ночных развлечениях. Просмотрев фотографии, я обнаружил знакомую пещеру в Южном Лондоне — с кострами и звездным потолком. Генри чудовищно похудел, кожа стала почти прозрачной, а глаза наводили на мысль, что у него проблемы со щитовидной железой. В заведении, где содержалась Астрид, Генри вполне могли принять за пациента, и, если бы такое случилось, я был бы только рад. Мой друг определенно нуждался в помощи.
Проезжая вдоль реки, мы с Веро немного поговорили о нем. Его состояние беспокоило нас обоих, но что мы-то могли сделать? Рассказать его отцу? Попытаться поговорить с ним по душам? В конце концов откровенный разговор был отложен до возвращения. Я не стал рассказывать Веро о том, что мы делали после «Boujis», она, в свою очередь, ни разу не помянула того блондина, с которым ушла из клуба. Чувствовалось, что мы постепенно расходимся, дрейфуем в разные стороны, и ни у кого нет сил собрать нас всех вместе. Состояние Астрид ухудшилось, и Генри, бывая дома, подолгу разговаривал с родителями по телефону.
Я высадил Веро в Брикстоне и погрузился в меланхоличный автомобильный поток. Небесные хляби разверзлись, стоило мне выбраться из покровительственных объятий холмистого Даунса, так что в Уэртинг мой «поло» въезжал по свежим лужам. Городок был полон разрозненных воспоминаний и местечек, которые могли бы иметь какое-то символическое значение и хранить приятный аромат юности, но я сознательно задвинул их поглубже в прошлое, и они просто ушли потихоньку. Я проехал мимо торгового центра, расположенного рядом с вокзалом и закрывшимся супермаркетом с заколоченными окнами, мимо ночного клуба, где танцевал с девчонками, которые слишком сильно потели и слишком быстро соглашались, чтобы я целовал их и трахал, потому что видели во мне шанс вырваться отсюда. Впрочем, все они знали, что никого я с собой не возьму, и оттого еще резвее старались мне угодить. Подруги, обзаведшиеся бойфрендами, бросили их; те, у кого сохранилось представление о порядочности, расстались с ними; мне же на всех было наплевать. Тогда такое отношение представлялось мне единственно правильным и оправданным, но, проезжая мимо «Фабрики», «Касбара» и «Лягушачьего пруда», думая о тех обделенных жизнью девчонках, я ощутил сожаление и стыд.