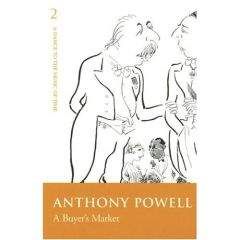— Рассказывал про старую гвардию? Нет, правда? Раньше?
Я не только успокоился, я был счастлив, меня не трогало, спит ли Гертруда, и я без особого пыла, нет — впустую, пытался почувствовать боль из-за нее, из-за этой груди, из-за круглого шрама, из-за поистине мужского чувства, которое внушала мне иногда левая часть ее тела.
— Может, немного иначе, — проговорил я, сунув в рот побольше мятных пастилок, и подождал, пока они растворятся в отпитом мною глотке, — точно не скажу, но про отступление Наполеона из Москвы ты говорил, это я помню.
Штейн медленно пожал плечами и закурил, глядя на ряды бутылок.
— Да ладно, — сказал я. — Как-нибудь приду.
— Непременно приходи, — суховато ответил он. — Суббота — вечер неудач. Они зря стараются. Чего-чего, а этих мелких провалов я очень боюсь. Ничего особенного, жалеть вроде некого, но по всему видно, что они из кожи лезут. Экспериментальный метод…
Он швырнул на стойку деньги и пошел позвонить; я выплюнул пастилки и решил подождать его на углу.
Вот теперь заснула. А завтра мне рано вставать, и здороваться с Маклеодом, и понять по его голосу, когда же он меня выставит, и мотаться целый день. Болтать, улыбаться, спрашивать, не говорить о том, что мне важно, или говорить полегче, поциничней, хлопать кого-то по плечу: мол, все мы братья. Вспоминать, что тело у Гертруды, несмотря ни на что, длиннее и крепче моего; вспоминать, пока идешь с портфелем под мышкой и сидишь в кафе, и понимаешь вдруг, что ты оброс черной щетиной. Ждать четверть или полчаса, пока Перес (сигареты), Фернандес (лезвия), Гонсалес (чай) примут меня, и, ожидая, прятать под стулом ноги в стоптанных ботинках. И возвращаться домой, не глядеть на нее, определять по воздуху в комнате, плакала она или нет, смогла ли забыть или сидела у окна, глядя на грязные крыши и заходящее солнце.
— Опять неудача, точнее — две, — сказал Штейн, когда мы вышли. — Пойду поиграю с Мами в парижские улицы. Я тебя провожу квартал-другой.
Гертруда, и пакостная работа, и страх потерять ее, думал я, шествуя об руку со Штейном. Неоплаченные счета и точная память о том, что нигде на свете нет ни женщины, ни друга, ни дома, ни книги, ни даже греха, которые дали бы мне счастье.
— Нет, правда, — сказал Штейн, выпуская мою руку, — это нечестно. Я говорю о малых неудачах. Как раз сегодня я с удовольствием взирал на главную мою неудачу, великую неудачу, по имени Хулио Штейн. Надеюсь, мне зачтутся добрая воля и явная покорность.
— Нет, — сказал я. — Это было бы слишком легко и тоже нечестно.
— Мне-то что! — говорил я позже. — Сам я никогда ничего не делал и, без сомнения, умру. Да, конечно, в чем-то я каюсь, так, вообще; однако не жалуюсь. Если ты идешь, тебе туда. Иди, иди, Мами тебе спасибо скажет.
Я подождал, пока он уйдет, полагая, что я сяду в трамвай, и остановил такси. Откинулся на спинку, закрыл глаза, глубоко вдохнул воздух и подумал: «Именно в эти годы жизнь становится кривой улыбкой». Безропотно принял я, что не будет Гертруды, Ракели, Штейна, всех, кого мне надо любить; принял одиночество, как прежде принял скорбь. «Кривой улыбкой». И открываешь, что жизнь давным-давно слагается из одних недоразумений. Гертруда, работа, дружба со Штейном, чувства к себе самому — все недоразумения. Больше ничего нет; ну разве что порой забудешься ненадолго или получишь преходящее, отравленное удовольствие. Наверное, всякое существование, которое только можно представить, непременно обратится в недоразумение. Наверное, так; но это неважно. А я тем временем хил и робок, я все такой же, я женат на единственной женщине, которую соблазнил (или это она меня соблазнила?), и я не могу не только измениться, но даже захотеть перемен. Плюгавый человечек, то ли противный, то ли жалкий, один из бесчисленных людишек, которым обещано царство небесное. Штейн дразнит меня аскетом не за то, что я не ношусь с нелепыми, искаженными идеями, а за то, что я холоден по природе. Вот он, сидит в такси — ноль, воплощение идеи «Хуан Мариа Браузен», двуногий символ дешевого чистоплюйства, составленного из отрицаний: не пьет, не курит, не нужен бабам, — короче, никто. Имя и фамилия, три слова, мелкая идейка, сфабрикованная моим отцом, чтобы его тоже наследственные отрицания хвастливо покачивали головами и после его смерти. В общем, человечек и его недоразумения, как у всех на свете. Может быть, это и узнаешь с годами, исподволь, не замечая. Может быть, наши кости знают, и, когда мы, в решимости и отчаянии, глядим на глухую стену, нас окружающую, которую было бы легко перепрыгнуть, если бы это было возможно; когда мы вот-вот согласимся, что только сам ты и важен, ибо только ты тебе и доверен; когда начнем понимать, что единственный императив — «спаси самого себя», ибо только это и нравственно; когда нам удается глотнуть проникшего в щель родного воздуха, который зовет нас туда, за стену, где, должно быть, царят свобода, гордость и радость, — тогда, наверное, мы ощущаем внутри свинцовый костяк и знаем твердо, что можно тащить до смерти любое недоразумение, кроме тех, которые нам попадутся вне наших личных обстоятельств. За них мы ответственности не несем и можем стряхнуть их, отклонить, отбросить.
Начинался октябрь, когда я, как в ночь старой гвардии и недоразумений, вернулся в такси на улицу Чили, оставив на углу Штейна под руку с Мами, которая, улыбаясь, махала мне на прощание.
Поднимаясь в лифте, я разглядывал в зеркале свои глаза и усы, думая: она спит, не проснется, а я люблю ее и ни на минуту не должен забывать, что она страдает больше меня. Дверь Кекиной квартиры была приоткрыта, из замочной скважины свисала связка ключей, свет из коридора угасал на ножках кресла и узоре небольшого ковра. Я не понимал, что делаю, пока не сделал. Прислушавшись к тишине, я потянулся к звонку, убежденный, что в квартире никого нет, но почему-то не двигаясь с места. На лестнице никого не было, и с нижнего этажа не доносилось шума. Я опять позвонил, подождал, сунул в дверь руку и, нащупав выключатель, зажег верхний свет. Оперся о стену, прищурил глаза, принюхался, ничего особенного не ощутил, но вдыхал воздух через приоткрытую дверь, пока у меня не сжалось горло и я не почувствовал, что сейчас затрясусь от рыданий, которые подавлял все эти недели. Я подышал, это прошло, воздух пустой квартиры овеял меня покоем, какая-то благостная усталость овладела мной, и, толкнув дверь, я вошел, медленно и бесшумно.
Ванная в глубине квартиры была открыта, и там мягко поблескивали влажные зеленоватые плитки. Я посмотрел на опущенные жалюзи, заметил, что за порогом комнаты — беспорядок, и увидел, как он смутно отражается в гладких белых досках обшивки. Отсюда она и говорила, жалуясь на жару и на Рикардо в тот вечер, когда я впервые услышал ее голос. Между балконной дверью и столом валялся пояс; на спинках стульев висели женские вещи; а на синей ковровой скатерти с белой кружевной салфеткой возле оплетенной бутылки кьянти, между фруктами и пачками сигарет — полными, пустыми, смятыми — стояла старинная овальная рама для портрета, одна только рама, с разбитым, словно бы еще дрожащим стеклом. Я снова прислушался, стоя спиной к двери, не раздастся ли шум лифта, не послышатся ли быстрые шаги, ее неповторимые мелкие шаги, которые не спутаешь ни с какими другими.
Можно сказать, что я удивился, почему дверь открыта и висят ключи, или что мне послышалось, будто тут, внутри, кто-то плачет. Лифт по-прежнему стоял, а где-то вдалеке осторожно передвигали мебель.
Большая кровать, совсем как моя, стояла так, словно продолжала ту, на которой спала Гертруда. По-видимому, ее уже расстелили на ночь, но на золотистом одеяле были разбросаны модные журналы, недавно выглаженные вещи, раскрытый и пустой ручной саквояж. Я начал тихо и спокойно прохаживаться по навощенному паркету, вздрагивая от радости при каждом медленном шаге. Ставя ноги на пол, я успокаивался и загорался, ощущая вокруг дыхание жизни, слишком короткой, чтобы брать на себя обязательства, раскаяться или стариться. Я пытался заглянуть в бутылку, не прикасаясь к ней; понюхал рюмки. Подойдя к маленькой этажерке, посмотрел на корешки книг — на их цвета, а не названия; потом, расплющив о стену поля шляпы, изогнулся, приложил к стене ухо, закрыл глаза и вслушался в тишину. На минуту я затаил дыхание, чтобы убедиться, что Гертруда вздыхает и ворочается, и мысленно увидеть свою квартиру, погруженную в темноту, просветы между мебелью, одинокое тело на кровати. Я отошел от стены и без труда понял, что не имею права трогать вещи или передвигать стулья.
В ванной, тщетно пытаясь уловить запах мыла или пудры, я вгляделся в свое лицо, едва различая отсветы на лбу и на носу, глазные впадины, шляпу. Через минуту я уже видел не себя, а только взгляд, словно отделившийся от моих глаз, тупой, нелюбопытный, апатичный взгляд. Сердце мое билось равнодушно, и та особая радость, которой я дышал, входя сюда, лишь вяло шевелилась во мне, словно кто-то водил по моей душе кистью, вверх и вниз, вниз и вверх; должно быть, звуки отступили на дальний край ночи, и я остался один, в сердцевине молчания. Словно бледность или румянец стыда, взгляд мой разлился по всему лицу, от шляпы до подбородка; потом я вышел из ванной, снова направился к столу и склонился над ним.