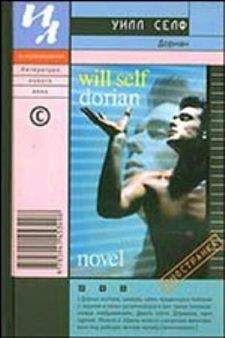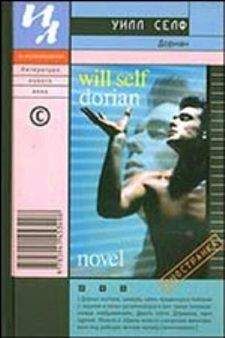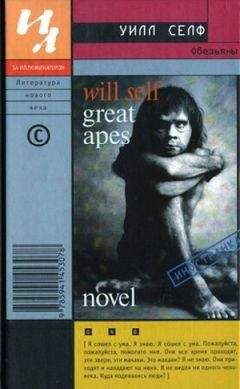И с этими словами Уоттон, взяв своего сонного, одурманенного послушника за руку, повел его к «Ягу». Настала пора отвезти Дориана Грея куда-нибудь еще для наставлений более интимных и потаенных.
Неделю спустя Генри Уоттон навестил Фертика в его особнячке, стоявшем в верху одного из тех кварталов Набережной Челси, что сообщают виду, когда смотришь с другого берега реки, облик почти голландский. В то лето Британия занималась тем, что дожигала остатки еще сохранившихся у нее иллюзий и, возможно, поэтому Генри Уоттон чувствовал себя более, чем когда бы то ни было, обязанным укрыть свою тайную уязвленность под традиционнейшим из одеяний. Отправляясь на этот одиннадцатичасовой завтрак, он отдал предпочтение зеленым вельветовым брюкам, грубым коричневым башмакам, зеленовато-голубому свитеру «Прингл» и клетчатой рубашке «Вайэлла» — что было, есть и останется навсегда униформой страдающего серьезной задержкой в развитии сельского джентльмена.
Добиться от Фертика приглашения неизменно было делом нелегким — у него имелся пунктик, вообще присущий людям, унаследовавшим состояние и сумевшим его приумножить: Фертик был пугающе скареден. Он не желал приглашать кого бы то ни было к завтраку, потому что желал съедать его сам. Он желал обжираться и обжирался, обслуживаемый чередою мальчиков с Дилли. Он желал брать одно за другим теплые, сваренные на неторопливом огне яйца, снесенные вольно гуляющими курами, срезать с них верхушки и припорашивать оные белужьей икрой, попивая при этом превосходнейшее шампанское. Теперь же ему пришлось разделить эти яства с Генри Уоттоном — как разделить и свои равно роскошные комнаты. Комнаты, подобные спокойной заводи светскости, затаившейся за водопадом городской жизни.
Вкусами Фертик обладал серьезными. Паркетные полы были покрыты хорошими персидскими коврами, на затянутых в желтый шелк стенах висели превосходные современные полотна. В квартире пахло ульем. Пыльца, воск, маточное молочко, мед. Почтенные книжные шкафы должным образом секвестровали принадлежащее Фертику серьезное собрание увесистых томов. Снаружи необычайно ярко посверкивала под солнцем излука реки. Внутри же все погружалось в украдчивый, уютный полумрак.
Фертику и его гостю небезупречно прислуживал нынешний катамит, очередной юноша с Дилли, Иона. То был крупный, остриженный под машинку забияка, управлявшийся со столовым серебром спустя рукава. Всякий раз, как Иона подносил Уоттону корзиночку с тостами, тому бросалось в глаза слово «ХРЕН», нататуированное на костяшках его правого кулака, а всякий раз, как наполнял бокал, — слово «ЖОПА» на костяшках левого. «Спасибо, Иона, — сказал Фертик, — а теперь верни его в холодильник, да, разумеется, — ведерко.»
Уоттон выпустил поверх маленького серебряного блюда с трюфелями клуб сигаретного дыма. «А я привязался к этому юноше, к Грею» — промурлыкал он. «Я знаю» — устало промямлил хозяин.
— Просто отвратительно, Фергюс, вы все всегда знаете — быть может, вы Бог?
— Это был бы недурной поворот событий, — казалось, Фертик всерьез задумался над последствиями такого поворота, во всяком случае, старые, ящеричьи глаза его прикрылись почти прозрачными веками.
Если бы Фертик был Богом, это многое объяснило бы. Прежде всего, распространенность зла и степень его процветания, — ведь Фертик, по большей части, предоставлял мир ему самому, впадая, — вольнонаемная жертва нарколепсии, — в дремоту. Что произошло и сейчас: окошко сознания Фертика медленно затворилось, чело его склонилось к овеянным дымом трюфелям. «Быть может, pour m’sieur un petit cachou?» — Уоттон изобразил для Ионе заглатыванье таблетки.
— Уже достаю, приятель, — Иона подошел к буфету и извлек из толчеи безделок и финтифлюшек коробочку с таблетками.
— На чем он нынче? — поинтересовался Уоттон, принимая тон захваченного своим хобби человека, который Уоттон приберегал для самых серьезных бесед о наркотиках.
— Как обычно, пять миллиграммов «Декси» в день и колеса, если выходит покутить.
— Не поделитесь? — двадцатифунтовая бумажка, появившаяся в ладони Уоттона, быстро сменилась коробочкой с меньшей, чем следовало бы дозой.
— Давай, Фергюс, старая любовь моя, — Иона с удивительной нежностью покачал головку Фертика, и когда челюсти того разошлись, ловко вложил ему в рот парочку «Декси», — на-ка, смой их шампунем.
— Гаа! У… гаа! Горько.
Фертик мгновенно очнулся.
— Всегда горько, — если их разжевывать.
— А я люблю разжевывать — еще шампанского… да, так лучше… намного.
Пока Фертик глотал шампанское, Иона продолжал баюкать его бородавчатую голову. Ящеричьи глаза загорелись, открылись пошире и уставились на двадцатку, так и застрявшую между «П» и «А» левой ладони Ионы. «Вы молодые, воображаете, что деньги способны дать вам все» — беззлобно промямлил Фертик.
Вот, подумал Уоттон, достойный педераст старого закала — он не платит слугам, но предпочитает, чтобы те щегольски его обворовывали. «А старики вроде вас прекрасно знают, что это именно так». Генри нарочито разжевал собственную «Декси» и защелкнул коробочку.
— Вы еще здесь? — осведомился миниатюрный Морфей.
— И буду здесь, пока вы не расскажете мне, что вам известно о Дориане Грее.
— На это уйдут часы, — Фертик выпростался из рук Ионы, — а я не готов терпеть вас даже часть потребного времени — вы слишком много едите, Уоттон, завтракать с вами все равно, что с какой-нибудь высококлассной проституткой в штанах. Но я действительно узнал его — я знавал его дурацкого папашу, и дурацкую мамашу тоже. Собственно, он и живет-то почти что дверь в дверь со мной… через реку, за Баттерси-Парк…
— Мне известно, где он живет, Фергюс, то, что я хочу узнать, в адресной книге не значится. Он явно уклоняется от разговоров о своих родителях.
— И имеет на то основания. — Фертик широко зевнул, потянулся, встал и подошел к камину, где, вместо того, чтобы облокотиться о доску, как сделал бы любой рядовой человек, затиснулся под нее. — Отец Дориана был из наших, большой причудник, к тому же — завсегдатай «Грейпс», он любил покрасоваться в мундире, как и все мы во время войны…
— Войны? — не поверил Уоттон. — Какой войны — Крымской?
— Нет, Второй. Вы, молодняк, полагаете столь многое само собой разумеющимся, вы ничего не знаете о том, какими мы были тогда, о нежности, которой могли проникаться друг к другу мужчины из разных слоев общества. — Протянув руку над головой, Фертик выбрал фотографию в затейливой рамке из золота и слоновой кости, стоявшую в ряду множества ей подобных. Фотография изображала молодого человека в круглой шапке и куртке с бранденбургами. — А, ладно, — глаза его затуманились, — я отвлекся. Отец Дориана, Джонни Грей. Он был игрок и пьяница из тех, что крутились вокруг везунчика Лукана, — был тем, что сходило за мужчину в ту пору, когда мир — для подобного рода мужчины — не превышал размерами школьного глобуса. Он умел произвести впечатление, можете мне поверить. Очень прямой, не терпевший никакого наушничества…
— Но откуда вы знаете, что он был педерастом?
— У нас были схожие вкусы, я бы выразился так. Нужно ли уточнять? Как бы там ни было, он женился на матери Дориана — Франческе Мутти — и зачем? Ради показухи, нечего и сомневаться, ну и потомства тоже. Хотя у него уже имелся наследник от прошлого брака; впрочем, такие люди любят делать запасы. Я слышал разговоры о том, будто он был жесток с мальчиком — пока дружественно настроенная аорта не лишила нас его общества.
— А мать?
— Ничего о ней не слышал, мой дорогой! Она была этакой Лоллобриджидой, только потоньше и поизящнее. Очень красивая, очень эротичная — если, конечно, вам по душе влагалища.
* * *
Бóльшую часть времени Генри Уоттон вовсе не был уверен в том, какой из человечьих полов он предпочитает, ни даже в том, нравится ли ему секс с представителями собственного вида. Сосцы и сикели, солопы, лепестки? Что дальше?
Это верно, его безумная, буйная и все еще безудержная страсть к наркотикам отняла у него немало сил, однако импотентом он не был — пока; его разъедала двойственность более глубокая и странная, чем прямая и мужественная ненависть гомосексуалиста к себе самому. Генри Уоттон любил говорить — всякому, кто желал его слушать, — что «самым знаменательным типом современности является хамелеон». И хотя внешний его облик — костюмы с Сэвил-Роу, вещицы с Джермин-стрит и Бонд-стрит — казалось, спорил с этим высказыванием, истинна состояла в том, что под поверхностью планеты Уоттон лежал мир абсолютно текучий. Он был Мандарином интеллекта, набившим мозоли, уничтожая Космических оккупантов, выскочкой, предававшимся самой опасной классовой спелеологии. Он не исповедовал никаких политических взглядов, кроме необходимости революционных перемен — к худшему. В контексте столь всесторонне своенравного темперамента, сексуальная противоречивость была почти избыточной. Во всяком случае, так ему нравилось думать.