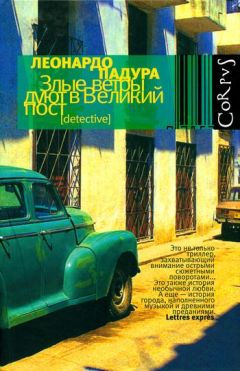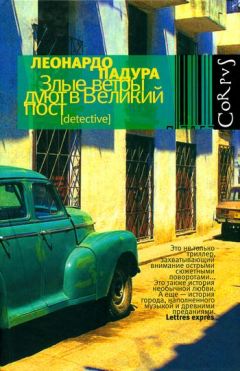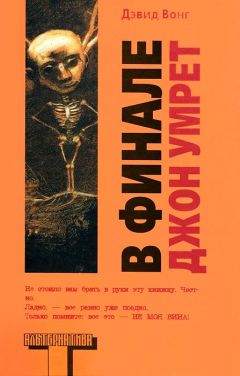— Не надо рассказывать мне сказки, без письменного разрешения директора никто отсюда не выйдет, — непреклонно повторял тот дежурную фразу, которую использовал последние тридцать лет.
Не такие уж мы разные — все та же история, подумал Конде и, минуя привратника, отворившего для них с Маноло дверь, сказал, глядя ему в глаза:
— Хулиан, я тот самый Конде, что задами сбегал с уроков и отправлялся слушать очередной отрывок приключенческой радионовеллы про отважного Гуайтабо. — И, удовлетворенный встречей с прошлым, шагнул в настоящее, где порывы ветра обрывали с махагуа последние весенние цветы. Только сейчас ему бросилось в глаза, что срубили два ближайших к лестнице дерева, под которыми он в свое время закадрил пару девчонок. Ну до чего грустно!
— Простите, но я смогу только где-то около семи, — сказала она, и Конде подумал: все перед ним извиняются в последнее время, а этот женский голос звучит так же приятно и уверенно, как если бы убеждал телезрителей, что к лицу треугольной формы больше идет длинная стрижка — ниже уровня подбородка. — Я должна закончить статью, которую надо сдать завтра утром. Вам удобно в это время?
— Да-да, конечно. Годится. До свидания, — попрощался он, сверяясь с часами — еще не было и половины четвертого. Потом повесил трубку и двинулся к машине, когда Маноло уже запускал двигатель.
— Ну что? — поинтересовался сержант, высовывая голову в открытое окошко.
— В семь.
— Мать твою… — выругался тот и в сердцах стукнул по рулю обеими ладонями. Он уже сказал Конде, что вечером у него свидание с очередной подружкой, Адрианой, мулаткой с необыкновенно упругой попкой и парой буферов, которые, когда обнимаешь ее, упираются тебе в грудь, а красивая — слов нет. — Посмотри, до чего она меня довела, — добавил Маноло, разводя руками, чтобы Конде мог лучше рассмотреть его тело, истощенное в результате сексуальных перегрузок с новой партнершей.
— Так, поехали, подбросишь меня до дома, а потом заберешь в половине седьмого, — предложил лейтенант Марио Конде, решив про себя, что не собирается тащиться в автобусе до Казино-Депортиво только из-за того, что Маноло приспичило проверить на упругость задницу Адрианы.
Машина тронулась, спустилась с черного от копоти холма, где располагалась Красная площадь, и выехала на закопченную до черноты улицу Десятого октября.
— Позвони своей девице и скажи, что к девяти освободишься. Думаю, с Каридад беседа будет короткой, — сказал Конде, чтобы немного взбодрить пригорюнившегося напарника.
— A-а, какая разница! Почему бы нам сейчас не навестить эту самую Дагмар?
Конде заглянул в блокнот, где Маноло записал домашний адрес учительницы.
— Не хочу больше ничего предпринимать, пока не побеседую с матерью Лисетты. Позвони-ка ты, пожалуй, Дагмар и договорись встретиться с ней завтра. И еще сделай для меня вот какую штуку: съезди в управление и поговори с ребятами из отдела по борьбе с наркотиками, лучше всего с самим капитаном Сисероном. Получи у них всю информацию по марихуане в этом районе и пусть сделают анализ той, что нашли в унитазе в квартире Лисетты. В этой истории слишком много непонятного, но больше всего меня беспокоит именно травка в унитазе. Преступник должен быть абсолютным лохом, чтобы так наследить.
Маноло подождал, пока зажжется зеленый на перекрестке с проспектом Акоста, а когда движение возобновилось, сказал:
— И не взял ничего.
— Да, а недосчитайся мы пары вещей, могли бы подумать, что это ограбление.
— Послушай, Конде, ты действительно думаешь, что мы сегодня закончим пораньше?
Лейтенант улыбнулся:
— Ну чего прицепился хуже клеща голодного?
— Конде, ты бы не спрашивал, если бы видел Адриану!
— Кончай трепаться, Маноло, тебе все едино — сегодня Адриана, завтра ее сестра, ты просто зациклился на телках.
— Нет, старик, нет, с Адрианой все иначе. Прикинь, я на ней жениться хочу! Что, не веришь? Мамой клянусь!
Конде опять улыбнулся, потому что уже давно потерял счет такого рода клятвам Маноло. Оставалось удивляться, что его мать по-прежнему жива-здорова. Рассматривая улицу, Конде обратил внимание на огромную толпу на остановке, без надежды на успех осаждающую автобус. Эти люди хотели поскорее добраться домой и продолжить существование, которое очень редко можно назвать нормальным. Прослужив в полиции долгие годы, лейтенант привык видеть в окружающих потенциальных преступников. Ему нередко приходилось заглядывать в бурлящие нечистоты их личной жизни, разрывать тонны опасной заразы — ненависти, страха, зависти и недовольства. Никто из фигурантов его дел — так же, как и сам Конде, — не мог похвастаться счастливой судьбой; эта нескончаемая, изматывающая общая безысходность становилась для него слишком тяжелым бременем; желание бросить эту работу возникло уже давно и постепенно превращалась в осознанное решение. В конце-то концов, рассуждал он, сколько можно заниматься приведением в порядок чужих жизней, не пора ли заняться своей?
— Маноло, тебе в самом деле нравится служить в полиции? — спросил Конде неожиданно для себя.
— А что, по-моему, неплохо. Работа не пыльная.
— Ну и дурак. И я тоже дурак.
— А меня устраивает наш дурдом, — ответил Маноло и, не сбавляя скорости, переехал через трамвайные пути. — Так же, как директора Пре устраивает их дурдом.
— Кстати, что ты о нем думаешь?
— Не знаю, Конде, кажется, он мне не понравился, но это ничего не значит, просто не произвел хорошего впечатления.
— На меня тоже.
— Конде, значит, я договариваюсь с Адрианой на половину девятого, так?
— Да, да, отвяжись только. Послушай, вот через тебя прошло несчетное количество девушек, а среди них была хоть одна, чтобы играла на саксофоне?
Маноло даже сбавил скорость — посмотрел на своего начальника и неуверенно улыбнулся:
— Как — ртом?
— Не тормози, а то в зад врежутся, — сказал ему Конде, покачав головой, и тоже улыбнулся. Полная распущенность, подумал он и закурил, почувствовав себя лучше. Через два квартала его дом, а там целых три свободных часа, можно будет сидеть и писать — что угодно, лишь бы писать.
Поставь битлов! Пусть магнитофон твой и все прочее, только я желаю слушать этих чертовых битлов! Strawberry Fields[9] — лучшая песня в истории человечества, я отстаивал свой выбор яростно, страстно, и вообще, какого хрена ты меня позвал? Дульсита, сказал он. А сам такой худющий, откуда, скажите, силы берутся слова произносить, и кадык прыгает, будто что-то проглатывает. Ну и что дальше? То, что Дульсита уезжает. Она уезжает, сказал он мне, а до меня никак не доходит, куда, черт подери, она уезжает — домой, в школу, в Лома-дель-Бурро,[10] и тут вдруг понял, что я настоящий осел. Уезжает — это значит уезжает, сваливает, сматывается, несется во весь опор в одно только возможное место — Майами. Уезжает — это значит, что она никогда больше не вернется. Но как же так? Вчера позвонила мне, поздно уже, и сказала. Мы, как поссорились, так больше почти и не встречаемся, но иногда она мне звонит, иногда я ей — короче, остаемся друзьями, даже после того как я так подло поступил по отношению к ней, связавшись с Мариан. Позвонила мне и говорит: я уезжаю.
Комната стала желтой от закатного солнца. Грустно звучала Strawberry Fields, а мы молча смотрели друг на друга. О чем говорить-то? Из всех нас Дульсита была лучшей: защитница слабых и обездоленных — вот как мы называли ее ради прикола, но только она умела выслушать остальных, и только ее любили все остальные, потому что она умела любить. Дульсита была своя в доску — и на тебе, уезжает. Скорей всего, мы уже никогда не увидим ее и не скажем — черт побери, какая же она добрая, Дульсита; ни написать ей не сможем, ни по телефону поговорить и даже вспоминать почти перестанем, потому что она уезжает, а тот, кто уезжает, обречен на потерю всего, даже места в памяти друзей. Но почему она уезжает? Не знаю, отвечает он, я ее не спрашивал; да и какая разница, важно, что она уезжает. Он встал, отошел к окну, и я против света не видел его лица, когда он сказал: уезжает — вот ведь, а? — и я понял, что он сейчас заплачет, и было бы хорошо, если бы заплакал, потому что иначе даже воспоминания остались бы незавершенными. И тогда он сказал: сегодня вечером я пойду к ней. И я тоже, сказал я. Но мы так и не повидались с ней напоследок. Мать Дульситы сказала нам: она заболела, спит, но мы-то знали, что не заболела и не спит, все это неправда. Просто она уезжает, подумал я тогда, а после долгое время жил, так и не поняв почему: Дульсита, самая лучшая, самая хорошая, маленькая женщина, которая не раз демонстрировала свое мужество, мужество во всем. Мы побрели восвояси молча, будто в похоронной процессии, а когда пересекли улицу, помню, Тощий сказал: смотри, какая луна красивая.