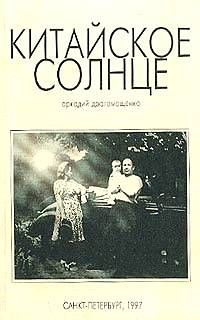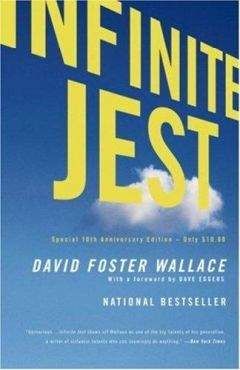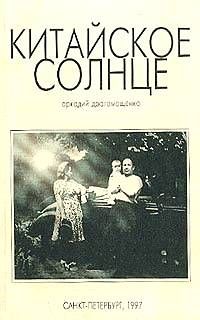Или же только возможностью реальности — тем нескончаемым началом, на которое изначально обречена литература, чем бы она ни притворялась. Пишущего, если, конечно, он не "просит", скажем, о деньгах, спасении, сострадании, можно сравнить с человеком, который, пытаясь рассказать в чем-то важную для него историю, постоянно перебивает себя же невразумительным бормотанием типа: "нет, не так, все по-другому". Но что значит "по-другому"? Что означает "все", что означает "нет так"? А как?
In wanting to know this other world, I never thought of it as unrelated to Russia — I knew you weren't suggesting that poetry constitutes a fantasy realm, utopian or otherwise. Nor did I think of it as unrelated to my place. Nor, finally, did I think you were suggesting a 'universal' world — free of national boundaries, language barriers, etc. But I did think of it — and still do — in your work and in mine — not as 'the real world' but as 'the world becoming real. Но именно это "нет, не так…", насколько мне кажется, залегает в каждой клетке письма, являясь, по-видимому, одной из главных его мотиваций. Что же было в нашем случае? Когда мы обменивались мнениями по поводу совершенно непритязательных слов и понятий, которые, казалось бы, не должны были вызывать никаких сомнений? Но, как бы писатель ни стремился сказать сразу и обо всем, это, непостижимое с одной стороны и понятное с другой стороны, задание предполагает в итоге одно — неудачу, пресловутое "нет, не так". And, curiously, despite the emphasis on memory that dominated our letters to each other, in combination with the images of future work it is now not unlike a poem — a world becoming real. В моей последней книге "Китайское солнце" есть фраза: "Предпочтительней писать о том, чего никогда не будет — о смерти; или же о том, чего никогда не было — о детстве". В самом деле… прошлого как бы и нет. Отдельные факты, удерживаемые памятью в той или иной последовательности, сцеплении, остаются изолированными фактами, извлеченными из определенного момента, времени (не исключено, что отсюда порой проистекают их таинственныя и головокружительные очарование и несхватываемость). А впоследствии становится другое — не сами факты, не сами события — но то, как они соотносятся с моими/твоими намерениями сегодня, с моим сегодняшним желанием, интенцией. When we wrote to each other about 'books', we both tended to focus on our first experiences with books — our first encounters with them, when they were still strange objects, almost forbidden, or at least arcane, containing indecipherable information, hidden knowledge — and, of course, promise. That's fine — though perhaps obvious. Neither of us spoke of the more 'technical' uses of books — the ways poets plunder books (and not just dictionaries) for words — for worlds that gather around words rather than emerge from the very limited imagination of an individual. Позволительно допустить, что прошлое в какой-то мере также приходит из будущего, из его предугадывания. Мы как бы движемся навстречу тому, что уже было. Странные воспоминания, странные наития… Вероятно, припоминания, вовлеченные тогда в наши размышления, проецировались в желание увидеть/написать как прошлое, так и настоящее (в котором мы находились, включая само действие письма), — в некоторое, отстоящее вовне, будущее. Иными словами, сам проект еще не завершенного обмена также сносился нами в ряд воспоминаний, о которых шла речь. And neither of us spoke of bibliomancy — or of that weird form of it that makes a book, opened at random, seem to be speaking of just that idea or object about which one had been thinking. So, for example, I open a book here on my desk. It's "Error 404", a text I am to teach this week, and this morning I opened it at random (and, as it happened, at page 93), where the first sentence to jump to my eye says, "Neighborhood means: dwelling in nearness." That's terrific! Politically — and, of course, geographically — nearness may be difficult, unlikely; artistically, one can imagine that it is becoming inevitable.
Как и у многих других, дни, данные мне, складывались сами собой, не требуя с моей стороны усилий. К примеру, я замечал, что лгу невольно и незаметно для себя (чаще для окружающих) не столько из-за боязни попасться на различных прегрешениях, из привычного переживания которых ткется ткань нашей монотонной жизни, но по причине тонкого, отчасти злорадного удовольствия изменять соотношения вещей и соотнесенности между мгновениями происходящего, словом, из желания наделять факты значением событий, ключи от толкования, или, если угодно, понимания которых находились бы в моих руках. "Лу, злые люди не поют песен, — отчего же их поют русские?" — o, бедная-бедная голова, горный воздух, гремящий пуговицами и металлическими орлами, фортепьяно, постукивающие в садах Гесперид: "как же ты мог жить столь долго, скрывая ото всех столь искусно скроенный главный замысел своей жизни?!" Если бы не чертежи, оставленные сестре в предгорьях Нью Йорка, что бы досталось нам? Хрустальная ваза? Молот? Валиум? Окружающее точно так же стремилось сделать меня своим соучастником, вовлечь под любым предлогом в свой сценарий, чтобы окончательно уверить в собственной нескончаемости, в которой любая его ложь рано ли поздно, но неминуемо оказывалась истиной. Только я могу свидетельствовать о критянах. Именно поиски "истины" предлагались мне в виде инструмента познания. Здесь уместно напомнить слова Миямото Мусачи, пользовавшиеся в 70-е у советской интеллигенции необыкновенной популярностью: "Под воздетым мечом разверзнулся ад, вселяющий дрожь в твое сердце. Но продвигайся только вперед, ибо так обретешь землю сияния". Впоследствии интеллигенция переметнулась к кротости. И в том, и другом, и третьем — "к себе", "в себе" и т. д. — таилась западня какого-то туманно-фальшивого вызова (как мы могли забыть о святости!), который, к сожалению, я не мог принять, предпочитая свое собственное время, где, будто во сне, мир видит себя таким, как он есть, каким он отражается за стеной моего зрения. Развивая это положение дальше, можно было бы выразиться следующим образом: если мир мертв, ты должен доказать ему, что ты мертвей его во сто крат. Только полное безразличие позволяет мне перемещать пальцы по клавиатуре. Неуловимое смещение тени на потолке. Я не сказал, что я пишу, скорее я перебираю возможности сочетаний, скорости их смещений. Так ли существенно, если в какой-то момент мне сумеют доказать, что он жив. Привычкам не следует отдавать слишком многого, освобождение грозит катастрофой. Существенно иное — мера взаимоотношений. Но, разумеется, в изложении такой логики нет должной последовательности и много очевидных изъянов. Касательно определения меры… Смерть бессодержательна. Именно у ее края мы проливаемся. Споткнуться и все пролить на пол. Части воображения. Мало того, что оно поспешно, оно — необязательно. Тем лучше. Я как и все, ничего не понимаю из того, что говорю. Разве возникает в моем воображении картина "дерева", когда я произношу слово, его обозначающее, или еще глубже впадаю в полусон руки, перебирающей пальцами по клавиатуре? Небо за спиной располосовала молния. Я даже склоняюсь к определению — открыла. В данный момент оно мне кажется точнее. Но сколько просуществует данный момент? И что означает в моем случае "точнее"? Хочется ли мне передать наиболее полно ощущение, которое я, допустим, испытал, заметив отблеск молнии на экране, либо совершенная неспособность продолжать (праздность? слабость? равнодушие?) побудила меня обратить внимание на первое, что попалось на глаза. Если передать, то кому? По какой причине? Каким бы я образом смог описать (согласен, это отнюдь не описание) неразличимость? Приходится признать, что никакого дерева нет. Как нет и смерти. Поскольку нет никакой картины, образа ни того, ни другого, ни третьего. Что возникает в сознании при чтении чисел? Возможные иные числа? Может быть последнее, что осталось с поры детства — это мерять все яблоками, загибая пальцы, перекладывая камни. Точно так же я вынужден воображать себя так, как видит меня кто-то. Если убрать кого-то, вероятно — говорят — возникновение ощущения самого себя, обязанное самому себе. Но я ничего не понимаю. Я животное (оправдание). Точнее, растение с изъеденными кариесом зубами, изнывающее от слепого страха ежеминутного пребывания здесь или там, или до здесь, или за там. Это, как в темноте, наощупь, вместо привычной стены ничего не нащупать. Рука проваливается. Иногда я делаю вид, что мне грустно. Потом забываю об этом. Иногда я разговариваю сам с собой, думая, что только одни звезды слышат меня, но мне отвечают люди. Приходится им отвечать, то есть, скрывать истинные мотивы моего желания говорить. Иногда я рассказываю им о дереве, о черешне, которая росла у меня во дворе, накрывая ветвями крышу дома, и под которыми весной и в начале лета я скрывался все то время, что мне было положено находиться в школе. Количественный перевес умерших над живущими понуждает верить в неизбежную встречу — иначе не понять, чем определена столь неукоснительная последовательность в соблюдении такого неравенства. Вот, и в книжном шкафу, вышитые дубовыми листьями шелковые занавески были неодинаковой длины. Завтра будет вечер. Сегодня он уже был. Неравновесие света есть природа зеркала.
Надо отметить, что иной раз мне доводилось переживать значительные неудобства. Но было ли уж так велико вот это самое желание? И точно ли неудобства казались столь затруднительными? Ответить на вопрос видится мне затруднительным.
Повторяю, все оговоренное и многое другое происходило как бы незаметно для меня, и память никогда не вовлекала меня в зеркальные лабиринты сравнений. Никаких прорицаний. Признаюсь, сначала мне был чужд вкус аналогии… Позднее я почувствовал, что подобное ощущение может означать отсутствие вкуса поражения. О котором, откроюсь, я постоянно мечтал, так как мне стало претить разреженное "сияние" нескончаемой победы. Прошел поезд. Ворота осени. Проблеск листа, вмерзшего в воздух. Сделать шаг или два — к легкой ветви; тяжесть ветра ей непосильна. Далее шепота тихий холод в ясности пробуждения. Птичий крик, дыма извилистый стяг. Липкие от пота пальцы не позволяют преисполниться подлинной бескорыстности при работе с клавиатурой. Каждое прикосновение требует завершения. Даже в точечном щелчке. Завершение как единственная мера в кружении на месте. Вопрос: что увидит луна, когда кончится дождь, когда пройдет поезд, когда захлопнутся ворота осени? Письмо оканчивается банальной фразой: "только взгляд, настигающий уходящий взгляд — таково зрение, ведущее к тому, что зовется вещами". Мне не нравится. Мне отвратительна погода, лица, обрывки фраз, которым я обречен. Несколько растративших себя вещей, речь, разбитая как сельская дорога, липнущая грязью, — увидит ли себя луна на рассвете в этих местах? Тонкие диагонали пейзажа импонируют.