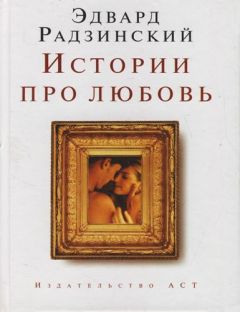– Ненавижу.
И вышел на улицу.
Вскоре он стоял у дверей квартиры Осьмеркина. Осьмеркин открыл ему сам. Он был в цветастом кимоно, которое ему подарили на кинофестивале в Японии. Друзьями они никогда не числились, да и не виделись давно, но Гоша заговорил так, будто они расстались вчера.
– Хороший ты парень, Осьмеркин, и георгины у тебя на заднице цветут красивые… Я про тебя столько добрых слов наговорил за это время, что с тебя причитается. Представляешь, как придут к жене подруги – все о тебе пою. Гусляр, да и только… В общем, не хочется мне идти сейчас домой, Осьмеркин, дай мне десятку до завтра. Я отдам.
– Может, старик, зайдешь в квартиру хотя бы?
– Не-а, – сказал Мещеряков. – Я лучше на лестнице постою, на скоростях. А то зайду к тебе – и настроение у меня совсем табак станет.
– Это почему же?
– Это потому, что ты страшно важный парень, Осьмеркин. Я когда на тебя долго смотрю, всегда начинаю вспоминать: что же я такое важное забыл сделать в жизни? И мучаюсь. Потому что все равно не вспомню. А вспомню – все равно не сделаю. Не сумею.
Осьмеркин понял, что Гоша расположился на лестнице надолго. Он вынес ему десятку и попрощался.
В половине одиннадцатого Гошу сбил грузовик в районе Таганской площади. Гоша был очень пьян, и шофер клялся, что он бросился под грузовик сам. (Потом в протоколе Гоша подтвердил слова шофера, но Дунянчику сказал, что шофер врал, а подтвердил он нарочно, чтобы шофер «не загремел», как он выразился.)
Очнулся Гоша в больнице. Раздробленную ногу оперировали, а на лицо и на голову наложили швы.
Молодого доктора, который «сшивал» Гошу, звали Теодор Ильич, или просто Тэд (так называла его дежурная сестра, у которой был с ним роман).
Потом к Гоше впустили Дунянчика. Она уселась у его постели и, стараясь не смотреть на подвешенную ногу, улыбалась, болтала какой-то вздор. А Гоша подмигнул ей и сказал:
– Доктор Тэд отнял у меня часть ступни. – Он чуть приподнял здоровую ногу и добавил: – И остался я со здоровою ногой «тэд-а-тэд».
И засмеялся. Ну тут-то она, конечно, разрыдалась всласть и выбежала из палаты. Потом долго успокаивалась, наконец подсобралась, вернулась в палату с идиотской улыбкой, но взглянула на Гошу и опять…
Гоша вышел из больницы неузнаваемым: он исхудал, оброс бородой, а голова у него стала совсем белая.
По щеке от глаза до рта шел глубокий шрам. Гоша хромал и передвигался с палкой. Он попросил в больнице не объявлять Дунянчику срок его выписки, хотел сделать ей сюрприз – прийти сам.
День был солнечный, но не жаркий, с ветерком.
Гоша медленно брел к дому тихими переулками, опираясь на палку. С непривычки он скоро устал, зашел в сад «Эрмитаж» и уселся у ограды, подставив голову ветерочку. «Как хорошо! Надо же, какое счастье – самому ходить! Как все просто, оказывается…» Он сидел в сквере, искалеченный, отдыхал и впервые за последнее время был счастлив. Ничего, кроме ощущения блаженства и покоя, и никаких мыслей.
И тут Гоша увидел знакомую фигуру. По центральной аллее от ресторана стремительно шел кинорежиссер Пил ар. Он совсем не изменился за это время: такой же мальчикообразный, в черных очках, в черных блестящих волосах, только под черной кожаной курткой была надета белая водолазка – вот, пожалуй, и все. Гоша поздоровался.
– Здрассы, – прошелестел Пилар и унесся к выходу.
«Спешит, все спешит», – сказал себе Гоша.
Но у самого выхода Пилар обернулся и медленно пошел обратно. На его лице было мучительное раздумье – он вспоминал… Потом физиономия засветилась облегчением – вспомнил.
– Изменился? – усмехнулся Гоша.
– Да, – ответил Пилар, – но у меня прекрасная память на лица…
Он остановился у скамейки и, не стесняясь, во все глаза разглядывал Мещерякова.
Кинорежиссер Пилар:
– Я сразу понял: это был выигрыш – сто тысяч по трамвайному билету. Это было – лицо! Резкий шрам придавал мужественность… еще что?., загадочность… что еще?., пикантную грубость. Герой вестерна… Борода – это банально, я сразу понял, что мы ее сбреем. Худоба была чудесная… Резкие морщины, огромные глаза – все нужно было оставить, это в стиле Эль Греко… Великолепные седые кудри! Нос – скульптура… рот мужской, сильный, чувственный… Но главное – глаза… да, попереживал он всласть… и добрые при этом… И никакой сытости, никакого актерства, пошлости!
Тут я понял, что ему очень хочется двинуть мне по роже палкой. И я поспешно спросил: «Как вас разыскать?»
Вскоре Гоша репетировал на телевидении Егора Булычева в постановке Пилара. Когда «Булычева» показали, о Гоше заговорили все.
Критик Д. (по телефону):
– Я очень рад, что вы позвонили. Я сейчас заканчиваю книгу о нем. И как-то во всем разобрался, «подытожил», как любил говорить покойный критик Е. Понимаете, что тогда получилось: Гоша действительно блестяще сыграл Булычева. Но кроме того, и внешний облик его представлял, если хотите, некоторый фокус. Его лицо, фигура, движения – от всего исходила сила, бешеный темперамент и почти животная жажда жизни… а в его глазах, каких-то блестящих, плачущих, что ли, было… нет, не страдание, не боль… а что-то… Это будоражило, создавало загадку. Кроме того, Мещерякову исполнилось тогда сорок, он ничего не добился в жизни, он был почти калекой. Короче, возник тот редкий случай в искусстве, когда у сорокалетнего, очень талантливого актера совершенно не оказалось завистников – все искренне радовались за него и восторгались его успехами. Правда, я помню, что, как правило, эти восторги завершались фразой: «Я особенно рад (рада) за него – ведь ему так сейчас плохо». В этом звучал некий снисходительный подтекст: «Если бы не несчастье, я, может быть, и был (была) куда более строг (строга)» – и намек на то, как хорош говорящий… Но это было все на первом этапе… А через год Гоша сыграл в «Скучной истории» в постановке того же Пилара, и все мы поняли: новое чудо – явилось! Фильм завоевал премию в Лондоне, и Гоша был избран английскими критиками актером года. Начался второй этап. Он «ознаменовался», как любит писать критик С., моей статьей о нем… Она неплохо называлась: «Страдание? Нет, сострадание!» По существу, многим эта статья попросту открыла Мещерякова. Да и сам он так считал. Он любил эту статью.
Помнится, в то время, встретив критика Б., я назвал Гошу «самым обычным великим актером». Я не боюсь сказать, что, к сожалению, не заметил этого вначале… Ну что ж, мне это урок, милостивый государь. Как там у Федора Михайловича Достоевского – «Не презирай мовешек». Вообще тема ожидания чуда в искусстве, как я ее раскрыл в своей книге, мне кажется очень современной.
Критик Д. был прав. Действительно, после «Скучной истории» – началось! Эпидемия!
Режиссер В., надумавший в то время ставить на телевидении «Отелло» («Я мечтал об этом двадцать лет!»), встретил на улице критика Е.
– А хотите, я вам скажу, кто может у вас сыграть Отелло? – сказал ему критик Е.
– Знаю, – вздохнул режиссер В. – Я знаю об этом уже десять лет. – (Он любил долголетие.)
– Вы слышали, режиссер Пилар будет ставить «Идиота» на телевидении. Как вы думаете, кто будет играть у него Рогожина? – спросила критик 3-а режиссершу В-у, встретившись с ней в «Пассаже».
– Он, – тотчас ответила В-а.
Так Гоша перестал быть «Гошей» и стал именоваться «Он», как и полагается богу.
И восторженная и вечно влюбленная критик П-а подытожила на пляже в Коктебеле:
– Он может все!
Он действительно мог тогда все.
У него оказалось разное лицо. Все возрасты были доступны этому лицу, и все состояния. И речь его, годами разработанная на радио, была поразительно гибкой. Но главное – во всем этом разнообразии Гоша был удивительно естествен…
Критик Д.: – Он играл в самой современной манере, так, как научился во время долгих сидений на репетициях замечательного режиссера К.: изысканная нервность, безукоризненного вкуса сухость в сочетании с бьющими наповал двумя-тремя кусками роли, в которых проглядывал его бешеный темперамент, старательно сокрытый во все остальное время. Но когда кинорежиссер Пилар предложил Мещерякову сыграть Рогожина, он решил отважиться сыграть его несколько иначе, как умел только он. Об этом рассказывал мне сам Виктор Пилар. Ну что ж, Мещеряков уже мог позволить себе играть так, как хотел. Он был богом, и вокруг него, как вокруг всякого бога, уже собралось много нас – жрецов, обязанностью которых было поддерживать веру в него… «Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан?» – сказано у Федора Михайловича…
Критик Д. опять был прав: Гоша был заранее избавлен от провала. Но все-таки он очень боялся неудачи – слишком долго ему не везло в жизни. И поэтому, кроме Рогожина, он согласился сниматься еще в двух «главнюках» и готовился их сыграть так, как от него ждали.
Работал он лихорадочно и совсем исхудал, к ужасу Дунянчика. Лицо его было теперь переплетено мелкими морщинками и напоминало вблизи печеное яблоко. Но в гриме он был красив совершенно. Теперь его красота уже никого не пугала.