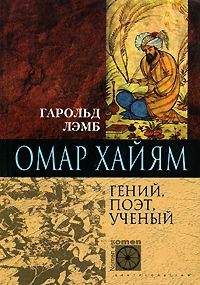Хороший по всем стандартам портфель должен был, помимо всего прочего, вмещать и тяжелую стеклянную пивную кружку емкостью 0,5 литра, обязательную принадлежность «правильного» студента. Этот предмет был таким же индивидуальным средством, вроде зубной щетки. Пить пиво из другой посуды не то, чтобы возбранялось, но считалось в нашем кругу признаком дурного тона.
В дом Фаридона меня влекло совсем другое. Тетя Галия, мать Фаридона или Фреда, как называли его друзья, всегда привечала меня как-то особенно, зная, что я иногородний студент, а, значит, по ее разумению, всегда голодный. Поэтому она готова была закормить меня татарскими кушаньями, а стряпуха она была отменная, буквально до заворота кишок. До сих пор во рту стоит вкус сочных мясных кайнаров, подобных я сроду нигде и никогда не ел. Малограмотная, но одаренная природным умом, полная, миловидная и очень подвижная, она была мотором в доме, и даже ее муж, этот мрачный заготовитель коровьих шкур и неразговорчивый мусульманский деспот, как мне кажется, не принимал ни одного важного решения, не посоветовавшись с женой. Причем, хитрая тетя Галия обставляла все таким образом, что муж пребывал в полной уверенности, что эти решения — плод его собственных размышлений; умница жена не выпячивалась вперед, не нарушала национальных и религиозных традиций.
В доме Фреда был полный достаток, поэтому у моего друга всегда водились деньги, что его, собственно, и сгубило. Он, нигде не работая, регулярно посещал бары и рестораны, и пил каждый день.
Но настоящей причиной моих посещений дома Хабибулаевых была подруга сестры Фреда Гюзель, которая иногда появлялась там. Впервые увидев ее, я понял, что погиб, причем, в этом ощущении гибели были смешаны горечь и сладость, как джин и тоник в хорошем коктейле. Ее имя было для меня Волшебством, а сама она была живым Чудом. Глядя в ее лицо, я не мог даже точно определить его черты; все заполняли слегка раскосые темные глаза, даже не глаза, а Очи, в глубоком омуте которых я барахтался и медленно тонул.
Иррациональность такого чувства сродни помешательству, но как хорошо быть иногда сумасшедшим!
Я твердо знал, что девушка, что называется, не про меня: старше года на три-четыре, из другой среды, с другими планами на жизнь, которые давно определили ее родители. Мне даже в голову не приходило, что мы можем быть близки. Я сидел с Фредом на веранде дома за столом, старался меньше пить и просто любовался ею, как диковинной вещью, дорогой старинной картиной или драгоценным камнем, покрытыми бронированным стеклом от налетчиков-грабителей.
Мы с ней почти не разговаривали, а те редкие взгляды-стрелы, которые Гюзель метала в мою сторону, вносили окончательное смятение в душу и расстраивали нервы.
Чрезвычайно восприимчивой к романтизму оказалась проспиртованная душа!
Мерзавец Фред-Фаридон издевался: «Для начала я подарю тебе тюбетейку, а потом тебе надо будет обязательно принять ислам! Я дам рекомендацию мулле! Обрезание он сделает под наркозом, ха-ха-ха!»
Прагматичный Козлов рассудил так: «Да, околдовала тебя эта татарка. Тут я вижу два возможных варианта: тебе надо или выбросить ее из головы, как наваждение, или переспать с ней!»
Циничный по отношению к женщинам, закадычный друг Морозов посоветовал: «Да трахни ты ее, со всем пролетарским гневом!».
Ему хорошо давать такие советы: его отец — рабочий, а мой — врач. Где я этого гнева напасусь?
Вот он весь мужской шовинизм без прикрас, философией которого является вульгарный физиологизм, основанный на посыле о первородном превосходстве мужчины над женщиной, хотя, чего уж там греха таить, без физиологии в этом деле, ну уж никак не обойтись! Иначе получается странный микс из писем лейтенанта Шмидта даме, с которой он имел удовольствие проехать всего несколько часов в вагоне паровоза в позе египетской статуи, сидя на разных скамьях, из «мыльных опер» и из чего там «платонического» (уж не из жанра унисекса ли этот «платонизм»?).
Но и сводить все только к проблеме клитора, как это пытались представить мои друзья, мужланы-материалисты, означало отбросить в сторону метафизический компонент, составляющий основную прелесть отношений к Гюзель: все эти сердечные вибрации и спазмы дыхания, приступы полного оглупения, возникающие при одном ее появлении.
Эта история закончилась, казалось бы, прозаически, хотя и вполне закономерно. Тем не менее, оставшийся прекрасный след воспоминаний, может быть, самое лучшее, что было в жизни. И еще один урок: о любой женщине, с которой впоследствии сталкивала судьба, я старался оставлять в памяти самое хорошее, напрочь зачеркивая негатив; ведь они дарили мне частицу самих себя. Без этого существование любого из нас напоминало бы пресный, черствый чурек.
В один прекрасный день родители Фаридона собрались на несколько дней в гости к родственникам. Фред тут же организовал вечеринку с танцами, на которой, естественно, присутствовали обольстительная Гюзель и ее вздыхатель, на удивление, практически трезвый. Танцуя расслабленно-медленный, чувственный блюз чернокожего американца Би Би Кинга, ощущая под рукой податливый, упругий стан партнерши, а на щеке — прядь ее волос, источающих пряно-медовый запах, я окончательно потерял голову и стал искать своими губами ее губы…
Когда все завершилось, и бурный вулканический период сменился неустойчивым эротическим штилем, Гюзель, поправляя свои густые, тяжелые, чудные волосы, источающие пряно-медовый запах, и, мерцая в полумраке комнаты телом богини, проговорила грудным голосом: «Считай, что между нами ничего не произошло, хотя мне было с тобой очень хорошо! Больше мы с тобой не встретимся. У меня есть жених, и через полгода должна состояться свадьба. Так оно и будет. Постарайся просто не забывать меня. И запомни: я тебя люблю!»…
«Любознательные» студенты знали наперечет всех преподавателей института, питавших слабость к спиртному. Все слои общества без исключения были заражены к тому времени в той или иной мере пьянством и алкоголизмом.
Так на военной кафедре, которая проходила в студенческой среде под кодовым названием «дубовая роща», служил некий майор с двойной кличкой Слоник и Конус. Слоник — потому что формой и размерами ушей, а также носом, удивительно похожим на хобот, он напоминал это экзотическое животное. Конус — потому что, закончив занятия на кафедре, прямой, как шпала, с огромным портфелем в руке, он неторопливо отправлялся пешком домой, по пути заходя в каждый магазин, где торговали разливным вином, где выпивал ровно один стакан крепленого красного. Мы не поленились проделать с ним весь маршрут, следуя на некотором удалении от майора Конуса, и подсчитали абсолютно точно, что таких кратковременных остановок Конус делал ровно шесть — по числу магазинов. Причем, нигде он не закусывал (не считая мятой карамельки), а от магазина до магазина походка его становилась все более печатно-строевой, а осанка — все более прямой и горделивой. Одновременно нами был проведен хронометраж времени, который установил, что общее время от института до дома, включая заходы в магазины, встречающиеся по пути, составило 45 минут. Это означало, что через каждые 7,5 минут Слоник-Конус вливал в себя полный стакан винища емкостью 220 грамм. То есть, менее чем за один час он поглощал через относительно равные промежутки времени около трех бутылок крепленого вина. И так каждый день (про воскресные дни мне ничего неизвестно).
Утром на кафедре Конус был неизменно подчеркнуто подтянут, чисто выбрит и ясен взглядом, без малейших признаков похмельной помятости на мужественном лице с непропорционально большими ушами. Вот что значит закалка и выучка офицера, пусть и не боевого, а институтского, паркетного, в советское время!
Как-то поутру мы пили пиво в открытом павильоне неподалеку от автовокзала. До революции там располагался Владимирский кафедральный собор, после революции — черт те что, а в период моего обучения на врача — автовокзал областного значения. Сейчас, после реставрации капитализма и самого здания церковь снова использует его в своем первоначальном значении.
Попивая свежее холодное «Жигулевское», мы вдруг обратили внимание на странную фигуру, в которой не сразу распознали профессора, заведующего одной из кафедр, которую мы прошли уже на первом и втором курсах. Уже немолодой в те годы профессор слыл большим ценителем женской красоты, и некоторые студентки, прослышав об этом, приходили на экзамен максимально декольтированными и в откровенно коротких юбках. Но необходимо было еще иметь соответствующие внешние данные: длинные ноги, роскошный бюст, и взгляд, сулящий негу и исполнение самых необузданных желаний. С этими студентками экзамен проходил в форме неформального собеседования, с обязательным возложением доброжелательной профессорской ладони на круглую коленку экзаменуемой и с непонятным перешептыванием при максимальном сближении лиц.