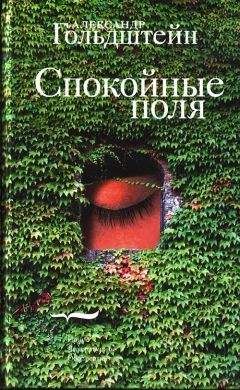Территории и экспансия, армия и система власти находились отныне вне этических обоснований, в своем абсолютном качестве, как если бы в них самих пребывал генеральный смысл государства. Империя представала разомкнутым кругом, откуда улетучилось содержание: один лишь каркас и скелет на поверхности, сияющая операционная голизна, опустошенный политический статус, а вовсе не тот окоем и ландшафт, внутри которого некогда веяло разнообразными чувствами и строгость не мешала веселым забавам, шаловливым поглаживаниям, трепетным выделениям.
В евразийстве был сильнейший географический детерминизм, фатальность земли, территории. Мазохистская эта фатальность подавляла остальные конструкции — всю симфоничность с идеократией. Пространственный приговор оборачивался государственным этосом или его «макиавеллистским» зиянием, формируя систематику ценностей. В современном неоевразийстве (оно уже тоже очень не новое) опять-таки любят поговорить о фатуме, о «единстве кристаллического фундамента Русской платформы, на которой раскинулась Средне-Русская равнина», о геофизических предпосылках объединения народов этой равнины. Бойкий слог эпигонов, их язык без костей болтает об этом без умолку, но гораздо отчетливей фатума звучит в голосах эпигонов желание Власти.
Преобладание социальности над геополитикой было свойственно в эмиграции 30-х годов куда менее изощренным, по сравнению с евразийцами, умственным деятелям «Молодой России» и Национально-Трудового Союза Нового поколения (будущий НТС). Они враждовали, и непримиримые к Власти Советов энтээсовские солидаристы обвиняли казем-бековских младороссов в капитулянтском национал-большевизме. А программы их были близки до полной неразличимости, сходным был и психический тип функционеров обоих движений. В русском рассеянье знали: это русский фашизм. Оценка верна, но лишь в самых общих чертах. Доктринальные их установки содержали весь джентльменский фашистский набор, прежде всего апологию тоталитарного государства и прочувствованную ненависть к «демолиберализму», способному учредить лишь аморфное псевдоравенство (фактически же — ужасную степень эксплуатации) вместо плодотворного иерархического соподчинения, только и приличествующего социальной архитектуре XX века. Русский народ и необходимое ему госустройство были как на ладони, ясны, как простая гамма; этот народ не нуждался в гарантиях права, но всегда, сколько помнил себя, мечтал жить, исходя из полноты внутренней правды, надежно укрытой от ледяного дыхания римского юридического формализма. Ему нужно тоталитарное государство, где был бы проведен святой принцип всепроникающей сопричастности, сплавляющий воедино народное тело и национальную волю.
Младороссы говорили о надклассовой народной монархии, солидаристы, натурально, о солидарности, истинном братстве. В. Варшавский в «Незамеченном поколении», сострадательно к ним присмотревшись, заметил, однако, что нищие мальчики, все эти светлоликие полотеры в дырявых носках, видели в тоталитарном Сверхзвере выражение абсолютной евангельской правды. Цельнометаллическое государство объединялось с тотальностью нравственной истины, не собираясь иметь ничего общего с социалистическим мироустройством, которое грубо профанировало его религиозную, по сути, основу. Отметим и то — это важно! — что по сравнению с грандиозностью солидаристских задач меркло суровое сияние империи, понятой в евразийском ключе, ведь солидаризм будет следующим, после христианства, этапом усовершенствования человечества.
Солидаризм НТС, равно как надклассовая монархия трудящихся и обремененных младороссов, были бедственной функцией эмигрантской униженности нацмальчиков, которым все время протягивали камень вместо хлеба и часто плевали в морду с близкого расстояния, а ведь им идеала хотелось, ну и любви немножечко, и десятка два папирос. Солидарность как спасение от одиночества в мире насильственного коллективизма мерещилась в те же годы некоторым экзальтированным, вдумчивым и отчаявшимся их современникам во стане Советов — Ивану Катаеву, например, желавшему усмотреть в коллективизации крестьян род духовной соборности (свидетельство Глеба Глинки в книге «На Перевале»). Достаточно перелистать публицистику И. Катаева, Н. Зарудина, Е. Вихрева (славное чтение, между прочим), чтоб убедиться, сколь восторженно-судорожными были постперевальские упования на разноязыкое общество, скрепленное социализмом с лицом человека.
Здесь самое время сказать несколько ласковых слов об усопшем, признав, что его окружало несомненное притяжение чувства. Имперскость была в отошедшей стране сильней коммунизма, по крайней мере в последние десятилетия, и в этом причина той безусловности (не единственная, разумеется), что отличала безвозвратно расколотый мир. Хрестоматийно-неприличные просторы и ни с чем не сравнимая, пусть даже умеряемая «пропиской», возможность грандиозных, беспрецедентных перемещений при полном попустительстве отсутствующих таможен, деклараций, аннексий и контрибуций; романтическая метафизика, лиризм дальних странствий, а следовательно, многозначительных встреч и разлук; столь многих тяготившая, но их же услаждавшая стабильность бытия, которую по-настоящему начинают ценить, лишь расставшись с ней, как со здоровьем; замирение народных и между-народных противоборств, вялотекущая толерантность, с которой притопывали и похлопывали друг друга разноплеменные граждане (терпимость эта взрывалась там, где и никаким иным добрым чувствам не было места, к примеру в казарме с ее ощетиненными землячествами); очень приятная, черт возьми, в своих основаниях жизнь; небесполезное сочетание провинциальности и всемирности, сухостойного изоляционизма и прообраза суперэтнического универсума — все это вместе с многим другим не раз еще будет вспомянуто. Но для ностальгии на досках судьбы уже нет черно-белых свободных полей, там стоят другие фигуры.
Еще в сроках земного своего воплощения этот комплекс сподобился идущих от сердца и сердцем исторгнутых ликующих песнопений, и что это были за песни, блин, что это были за песни! Не будем ломать комедию насчет их оппозиционности: официальный мифологический паноптикум приобрел в этих пеанах ослепительно антропоморфное выражение, и мнимый сей вызов на презумпции незыблемости Империи, но также — и главным образом — из ощущения ее удивительной художественной привлекательности. Евгений Харитонов, который сам был поэтом своего Государства и строя, в коротком фрагменте объяснил сущность лучшего мастера песни в стране, указав на вопящую близость его к укладу и власти: «Прятали-прятали от корреспондентов нашу жизнь во время Олимпиады, а все равно Бог поломал начальству карты и случай хуже бомбы случился. В самый разгар парада умер негласный певец государства. И это показало всем, кем он был. Бог поставил точку в его жизни, когда его время точно-точно кончилось, и именно в разгар византийского торжества. Готовилась-готовилась страна к 80-му году, а не знала, что готовилась к его смерти. И для этого строили стадионы и гребные каналы, и для этого собрали миллион милиции. Чтобы обставить ему смерть. Какой восторг! Ничто так точно не показывает человека, как то, как он умер и в какой момент. И именно этот свой главный портрет чел. видит только в последнюю минуту, и то не до конца. А в основном видят другие».
* * *
Выше было произнесено слово, выше слово было сказано — «неоевразийство». Возрождение этой идеологии в момент, когда единство страны распалось вторично, не нуждается в разъяснениях. В постмодернистском проекте Евразии идея Империи вновь вырастает из геополитики, из ее неумолимых посылов. В том же фатально замкнутом цикле зарождается этика нации и государства с ее соотношением «врагов» и «друзей», «наших» и «не наших». «Метафизик» и специалист по «сакральной географии» А. Дугин, держа за фалды Карла Шмитта, силится обосновать превосходство теллурократического типа империй над талассократическими (теллурократия — власть посредством Суши, талассократия — посредством Моря). Первый тип представлен Римом, Австро-Венгрией, Россией, второй — Финикией, Великобританией, Соединенными Штатами. Империи Суши, тут и объяснять ничего не приходится, связаны с глубочайшими органическими безднами жизни на Земле, то есть на Суше, империи Моря, опять-таки ясно без лишних слов, приспособлены для одной лишь космополитической неподлинности. При всем субстанциональном первородстве теллурократического российского великодержавия, оно ведь должно воспрянуть не только в сфере гадательного умозрения. Каким образом? Здесь много неясного, но рассуждения строятся либо вокруг все того же фатума расы и почвы, либо намерены утвердить перед Богом новый славяно-тюркский союз, имеющий целью наконец без возврата превратить Россию в Евразию. Однако хватит об этом в тысячный раз, уж слишком здесь утомительно, безотрадно, банально.