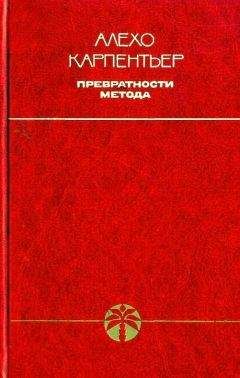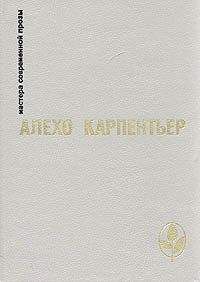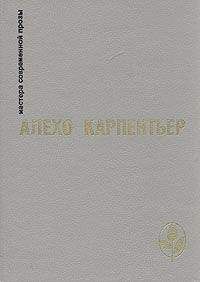Рельсы сходились перед нами и расходились, бежали навстречу огни светофоров, и вот в два часа пополуночи мы подъехали к пустынному вокзалу Великой Западной дороги — сплошной металл и матовое стекло (почти все битое), — построенному недавно французом Бальтаром. Военный атташе Соединенных Штатов встречал нас на платформе вместе с членами Кабинета. И вереница автомобилей направилась в город, тихий, словно вымерший из-за комендантского часа, введенного сначала с восьми вечера, потом с шести, а начиная с этого дня — с половины пятого. На высоких тротуарах спали с наглухо закрытыми ставнями и дверями серые, бурые, желтые дома, выпятив ржавые водосточные трубы. Конная статуя Основателя Государства возвышалась на Городской площади в мрачном одиночестве, хотя у ее подножия водили хоровод герои, отлитые из бронзы. Большой Театр со своими высокими классическими колоннами, возле которого не было ни души, казался диковинным мемориалом. Правительственный дворец сиял огнями в ожидании Чрезвычайного Совета заседание которого должно было продлиться до завтрака. А в десять утра толпы народа, призванные сюда патетическим воззванием, опубликованным в специальном выпуске утренних газет, уже топтались перед зданием из вулканического тесонтля с мозаикой, которое было возведено в эпоху Завоевания одним вдохновенным архитектором, бежавшим от святой инквизиции и построившим в стране самые красивые храмы колониальных времен, ныне объявленные Национальными Обителями Святой Девы-Заступницы из Нуэва Кордобы. Когда Глава Нации появился на балконе, раздался столь мощный приветственный рев, что сотни голубей в испуге разом сорвались со всех крыш и террас, придававших городку в низине вид красно-белой шахматной доски, пронзенной тридцатью двумя шпилями церквей более высокого или более низкого ранга. После того как умолкли здравицы, Президент стал держать речь, по своему обычаю неторопливо, выдерживая паузы, произнося слова четко и звучно, в теноровом диапазоне, точно выражая свои мысли, хотя и употребляя слишком много, по мнению большинства, таких красивых надуманных слов, как «прегуманный», «очезримый», «рокамбольный», «эристичный», «демонстрантный». А затем, повышая голос, начал вызывать в воображении слушателей ярчайшие образы Кавдинского ига[82], Дамокловых мечей, переходов Рубикона, Иерихонских труб, Сирано де Бержераков, Тартаренов и Клавиленьо[83] вперемежку с гордыми пальмами, родимыми землями, кондорами и пеликанами. Потом перешел к бичеванию «льстивых демагогов», «коварных янычар», «продажных кондотьеров», всегда готовых запятнать свои шпаги позором бесчестных поступков, возмутителей спокойствия в обществе, где трудолюбие и приверженность к патриархальному образу жизни сделали всех нас членами одной большой семьи, но такой Большой семьи, которая, будучи сплоченной и здравомыслящей, всегда неумолима и строга к своим блудным сынам, если они, вместо того чтобы, согласно библейскому сказанию, покаяться в грехах, хотят опустошить и поджечь Отчий дом, где, получив награды и чины, они наконец сделались людьми…
Немало злых шуток отпускалось по поводу витиеватости речевых оборотов Главы Нации. Однако — Перальта именно так это и понимал — тот употреблял их не ради любви к вычурности языка. Президент знал, что эта языковая изощренность являла собой стиль, который создавал ему особый ореол, а употребление слов, выражений, непривычных эпитетов, которые не доходили до публики, отнюдь не вредило оратору. Напротив, возрождение атавистического культа изысканности и цветистости создавало ему славу знатока изящной словесности, чья речь составляла разительный контраст с грубыми выпадами, площадной руганью и косноязычными прокламациями его противника…
Завершив свою речь страстным призывом к спокойствию, согласию и сплоченности всех граждан доброй воли, всех достойных наследников Основателя Государства и Отцов Родины, чьи священные гробницы стоят рядами в нефах соседнего пантеона («…оберните головы свои туда, — и не глаза, а душу свою устремите. К этой гордой вавилонской башне…» и т. д., и т. п.), Глава Нации, после того как стихли последние шумные возгласы одобрения, направился в Зал Совета, где на длинном столе красного дерева были расстелены различные карты. Втыкая в них флажки на булавках — одни национальных цветов, другие красные, — Полковник Вальтер Хофман, Председатель Совета, отныне исполнявший обязанности Военного министра, без лишних слов и без прикрас обрисовал военную ситуацию. Вон за той линией находятся мерзавцы и подонки, а здесь, здесь и здесь — доблестные защитники нации. В последние недели мерзавцам и подонкам оказывали помощь другие мерзавцы и подонки, это видно на карте. Однако после передачи зоны Тихоокеанского побережья компании «Юнайтед фрут» враги отрезаны от Бухты Негра и лишены возможности получать боеприпасы. Верные присяге войска сдерживают наступление революционеров на Северо-восточном направлении: «Но если бы у нас было больше оружия, мы перешли бы к контратаке». — «Через неделю у нас будет все, что надо», — сказал Глава Нации, пояснив, что груженые суда отходят от берегов Флориды, а фрахт уже оплачен. Главное — поднять боевой дух правительственных войск. Он сам, например, лично отправится этим же вечером на передовую. В целом ситуация, хотя и сложная, не вызывает серьезных опасений. «А как в Нуэва Кордобе?» — тем не менее поинтересовался Президент, вспомнив об этом странном городе с полуразрушенными дворцами и многочисленными рудниками, может быть, слишком индейском городе, который вселял тревогу своим вечным недовольством, внушал страх своими внезапными бунтами, всегда оказывал самое упорное сопротивление во времена прежних восстаний. «Там спокойно, — ответил Хофман. — В тех местах Атаульфо не популярен. Поэтому он обошел город, не заняв его. Кроме того, он обещал уважать интересы англичан и американцев, которых там много, и не развертывал военных действий в той зоне, желая показать себя человеком слова». Главе Нации захотелось спать. Велев Мажордомше Эльмире приготовить себе походный мундир, начистить ваксой сапоги и натереть замшей до блеска каску с острием, он, повинуясь внезапной прихоти, вдруг овладел ею, задрав юбки, когда она стояла, нагнувшись над низким мраморным камином, а потом что-то лепетала смущенно и восторженно по поводу «искусности» своего господина, пожившего в Париже, — хотя Париж, этот ужасный Париж, совсем лишает людей души… Затем он улегся на свой гамак, дабы соснуть немного…
Открыв глаза после отдыха, первое, что он увидел, было лицо — на сей раз мрачное и озабоченное — Доктора Перальты. Студенты светского Университета «Сан Лукас» имели наглость пустить по рукам совершенно недопустимый, беспардонный манифест, по мере чтения которого рос гнев Президента. Там, в частности, напоминалось, что он захватил власть путем военного переворота, что утвердился на своем посту с помощью фальсифицированных выборов, что его полномочия были продлены на основе самовольного пересмотра Конституции, что его перевыборы… В общем, завершалось сие писание так же, как все ему подобные: пора покончить с властью, не имеющей ни цели, ни доктрины, держащейся на одних эдиктах и декретах, с Президентом-Проконсулом, который правит от имени правительства, но по указке, вернее, по шифровке своего сына Ариэля, посла в США. Однако самой большой неприятностью, ибо это уже было нечто новое, явилось заявление студентов, будто ныне что мундир, что сюртук-один черт, и бороться за дело правительства столь же глупо, как и за дело так называемых «революционеров». Меняются, мол, только игроки у того же самого игорного стола, а нескончаемая пулька длится уже более ста лет… И человеком, который мог бы восстановить конституционный правопорядок и демократию, объявлялся Доктор Луис Леонсио Мартинес, суровый профессор философии, переводчик Платона, — его хорошо знал Перальта, ибо они когда-то вместе учились. Это был лысоватый человек с высоким выпуклым лбом и набухшими прожилками на висках, говоривший резко и кратко, не терпевший пьяниц и лежебок, воинствующий вегетарианец, отец девяти детей, поклонник Прудона, Бакунина и Кропоткина. Он когда-то переписывался с Франсиско Феррером[84], учителем-анархистом из Барселоны, и организовал в городе огромную демонстрацию при известии о расстреле Феррера в Монтжуике, демонстрацию, проводившуюся с разрешения Главы Нации, ибо протест был всеобщим, а кроме всего прочего, этот Феррер уже перешел в мир иной и никто его оттуда вернуть уже не мог. Людское шествие, начавшееся засветло и окончившееся к девяти вечера (три часа выкриков, не направленных против Правительства), должно было показать наше уважение ко всем и всяческим свободам, нашу терпимость ко всем и всяческим идеям и т. д. и т. п. Доктор Луис Леонсио Мартинес, помимо всего прочего, прекрасно сочетал свое пристрастие к свободомыслию с влечением к теософии, страсть к которой ему внушили «Упанишады» и «Бхагавадгита»[85], оккультистки Анни Безант и мадам Блаватская, а также астроном Камиль Фламмарион, и потому весьма интересовался связью с потусторонним миром, которая устанавливалась в тесном кругу на спиритических сеансах с помощью вращающихся столиков и медиумов, где постукивания и подскоки блюдечек извещали о явлении Сведенборга, графа Сен-Жермена или еще живой, но такой недоступной красавицы Эусапии Паладино…