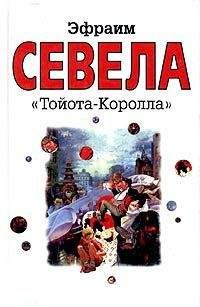– Расскажи мне что-нибудь, – попросила она.
И он начал рассказывать про то, как слоисто распластаны пихты на берегу океана и каким йодистым тленом тянет с берега, заваленного японскими поплавками и сетями…
А она уже засыпала, вздрагивая, догорая и тая, как солнце, в своей нежности, красоте, усталости. Губы были приоткрыты небу, как лепестки, и, как лепестки, чуть завиты, он поцеловал их, и они ей не принадлежали и отвечали со вселенской готовностью.
И это прикосновение уже ничего не значило, потому что он давно уже прошел сквозь нее дальше и глубже, туда, где остановилось время и смешалось прошлое с будущим, став настоящим, и все было в ее пелене, налете, тумане, и он глядел на родившийся мир, как сквозь плаценту.
А утром, проснувшись, она не раскрывая глаз и улыбаясь, потянулась, поискала лицом что-то у него в шее, пряча сонный рот, и пробормотала:
– Там, в холодильнике… Возьми два апельсина и лимон, и у меня такая крутилка… Сделай мне, пожалуйста, сок…
Он взял отлитую из лиловатого стекла ручную соковыжималку, похожую на круглый остров с крутым и граненым вулканом в середине. Половинка апельсина вращалась, как солнце, на зубчатом острие, густой сок стекал по лиловому стеклу, и это вдруг напомнило, как мешается на лобовом стекле лимонный омыватель с синим снегом. Снова подошла холодной льдиной его главная жизнь и встала вплотную к солнечному миру его женщины. И в который раз пронзило душу ледяной молнией, и он знал, что этот стреляющий шов никогда не зарастет.
Потом она ела яблоко. Откусывала и жевала совсем медленно, и мякоть рассыпалась с нежным шелестом на мельчайшие шарики, они лопались, и она слушала их шуршание, как музыку, улыбаясь ей, закрыв глаза.
И лежала на боку, чуть согнув колени, в халате, недостегнутом на две пуговицы, видны были бедра с нежнейшими пупырышками, мягкие и прохладные. А когда встала и подошла босиком к окну, больше не отдавались ее шаги грозным дорожным цоканьем, и ноги казались беспомощными, и ступни плоско стояли на полу и никуда не торопились.
Только туфли ждали поодаль, как распряженные черные лошади.
– Ты знаешь, что нас пригласили на Саянский карнавал?
– А ты знаешь, что у меня здесь работы на три дня и дальше я целых десять дней свободна?
Они пересекли Хакасию, перевалили через Саяны в Кызыл, а оттуда проехали на самый юго-запад Тувы к хребту Цаган-Шибэту.
Под Абаканом директор заповедника Гена Киселев, старый товарищ Жени, поселил их в коттедже на берегу соленого озера. Они лежали на прозрачной синеватой воде, и она держала их с морской легкостью. А потом сидели за столом, закусывали черемшой и форелью, Гена поднимал стопку и смотрел, прищурясь, на Машу, и говорил, какой же ты все-таки гад, Жека, и спрашивал Машу, не надоел ли он ей со своими машинами.
На Усинском тракте они стояли над саянской далью и глядели на выгнутые пики Ергаков с пятнами снега. Поражало, с какой отвесностью и безо всякого перехода и разгона растут горы, и как густо покрыты огромными кедрами и пихтами, и как лепятся вытянутые в струнку кедры по резным и узким, как лезвие, гребням сопок.
Они ели шашлыки в Арадане, ехали дальше, и даже Маша заметила, как на тувинской стороне Саян тайга подсушилась лиственничником, но вскоре и он остался лишь по северным склонам – “северам”, и горы постепенно остепнились, спали, и снова замаячила лента Енисея и замрел в синеве Кызыл, столица Тувы.
Они проехали на юго-запад по долине Барлыка почти до самых Мугур.
Пешком поднялись на Цаган-Шибэту, пили чай на перевале среди горной тундры. Шел снег, жарко горел костер из карликовой березки, и Машино лицо горело от солнца, и он принес ей букетик эдельвейсов, похожих на маленькие морские звезды.
С Цаган-Шибэту они глядели на огромный простор, зеленый, желтый, лиловый и шахматно-пятнистый от облачных теней. Виден был западный
Алтай, с юга Монгольские горы в снежниках, а прямо перед ними светилась Монгун-Тайга, гигантское четырехтысячное сооружение в шапке вечного льда и снега. И срывался беркут, и парил под их ногами, а они ночевали в палатке на берегу Барлыка. С утра их встречала режущая горная свежесть и пронзительный крик альпийских галок. Проехал тувинец на лошади: “Мясо сурка будем есть?” Через час вернулся со свежедобытым тарбаганом, и его мех пах кофе. Тувинец приготовил его в котле, и они ели, обливаясь прозрачным жиром, и лицо Маши было загорелым и счастливым.
Из Кызыла возвращались через Шагонар и приехали в Шушенское к началу
Саянского карнавала. На день съездили в Казановку, Аскизский район, где стоит стела Ахтаз из белого гранита и в котловине, окруженной сопками, нежность ковыля, чабреца и полыни достигает райской несбыточности. И среди редких лиственниц сереет каменный бок сопки.
Маша приложила к нему лист бумаги, ярко горящий на солнце, а Женя сорвал пучок сочной степной травы, потер лист, и на нем проступил зеленый конь.
А на обратной дороге остановились возле могильника, все вышли из машин и автобусов, и в этот момент подъехали на “УАЗике” несколько хакасов из ближайшего села. Налили всем вина, и главный из них, оглядев древнюю землю, колыбель сибирских народов, сказал, подняв стакан:
– Высокому степному небу – сег! Древней земле Аскиза – сег! Синим горам Хакассии – сег!
И все стоящие вокруг, и Маша, широко открыв глаза, повторили это слово “сег!”, переводящееся как “слава” и означающее великую причастность человека к Земле.
В Абакане, в гостинице “Хакасия”, трещал, как жук, и надрывался, повторяя руслице нехитрой мелодии, телефон с халцедоновой крышечкой, и Маша, не шелохнувшись, говорила: “Пускай звонят”. В ее глазах стояло выражение спокойствия и торжества.
И было открытие Саянского карнавала в Шушенском, и на площади в полной темноте стояли и сидели на земле несколько сотен людей из разных углов Земли. В середине пылал костер, и сидел тувинец с бубном, и плясала старая тувинка с широким и грозным лицом. Вся эта картина озарялась негаснущими вспышками фотоаппаратов, гул бубна уходил в землю, и она сама гудела, как бубен.
А неподалеку сияла сцена с проводами и аппаратурой, пела хакасская молодежная группа, и звук басов был тем же голосом бубна, но усиленным в несколько сотен раз. Он пронизывал тело насквозь, сотрясал землю, и она отвечала тектоническим рокотом.
Утром ходили в заповедник деревянного зодчества – огромную деревню из нескольких десятков домов, свезенных и спасенных вместе со всей утварью со всех окрестностей. Многие избы были срублены из распиленных надвое повдоль огромных кедрин, и углы казались сложенными из лунных половинок. Там работали мастерские, в бондарной сушилась кедровая клепка, пахло свежим деревом, все было завалено стружкой и освещено солнечным светом свежего дерева. Молодой парень-бондарь, показывая инструменты, сказал: “Вот это уторник, – и почему-то добавил: – По-нашему, по-сибирски, зауторник”.
У нескольких изб стропила продолжались из-под крыши и загибались, держа желоба для воды.
– Это курицы.
– Почему они курицы? – спрашивала Маша своим крадущимся голосом.
– Я не знаю… Но они делаются из цельного дерева, и этот загиб естественный, там, где ствол переходит в корень. А дождевая вода из желоба называется поточной. Так и говорят: поставить бочку под потоки.
В Абакане шел “Чир Чайан” – международный фестиваль абаканского театра “Сказка”, они смотрели спектакль “Алтын Аях”, и снова пела степь, и говорили курганы, и гудела земля, как бубен, и двое людей любили друг друга, и были частью этого гула, и не искали большего смысла в своей жизни. На другой день показывали фильм Куросавы с
Юрием Соломиным и Максимом Мунзуком. Приехало полно французов, у которых с Мунзуками была своя старая дружба. Два тувинских паренька перенеслись через Саяны на роскошном “Лауреле-Медалисте”, он стоял возле театра со своими фарами “крылья бабочки” и буковкой “эл” на ножке. Молодой француз, горбоносый брюнет, захотел посидеть в невиданном автомобиле и, когда тувинец распахнул для него дверь совсем не с той стороны, откуда он ожидал, удивленно и восхищенно вскинул руки и открыл рот.
Последним вечером в гостинице Маша села к Жене на колени, внимательно провела губами по щеке, чуть прихватила зубами, сказала шепотом:
– Ты молодец. Спасибо тебе.
– Тебе правда понравилось?
– У меня никогда не было такого путешествия.
– А у меня такой путешественницы.
– И ты не пожалел?
– Я не пожалел… А что тебе сказал тот француз?
– Он сказал, что ему тоже понравилось.
– А мне понравилось, как он ломанулся “лаврику” не в ту дверь.
– Ты опять все переводишь на машины.
– Я же не на все машины перевожу.
– Я тебя покусаю… Они неправильные…
– Они лучше…
– Все равно… Это неправильно.
– Что неправильно?
– Что они лучше… И что здесь с таким рулем ездят… Когда ты меня целуешь…