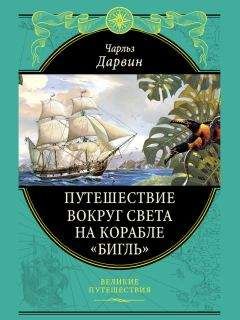— Увы, Сашенька, училась я на станции Трудовая Савёловской железной дороги. Во Всероссийском институте Коневодства, в народе — ВГИК.
— А я по бабке с дедом — яхромский! — обрадовался Ковригин. — От Трудовой километров десять к северу. А ты, стало быть, внучка маршала авиации. В Трудовой — их дачи.
— Ну, типа того, — икнула Лоренца. — Ты дрова для печки волоки.
— Чего же ты не приехала ко мне на кобыле или хотя бы на белом коне?
— Кобылы курьерам не положены, — сказала Лоренца.
— Каким курьерам? — удивился Ковригин.
— Не бери в голову, — сказала Лоренца. — Беги в сарай за дровишками.
Ковригин сбегал. Лоренца перешла в дом, к печке, прихватила с собой бутылку коньяка "Золото Дербента" и, зажав ноздри пальцами, боролась теперь с икотой.
— У тебя только одна комната будет прогрета, — сказала Лоренца. — А в ней один приличный диван. Придется тебе спать на полу у печки. Или со мной на диване. Если не побрезгуешь.
— Посмотрим, — проворчат Ковригин. — А что это ты зажимаешь ноздри?
— Задерживаю дыхание. До двадцати двух. И икота обязана пропасть. Или перейти на Федота. Совет тренера. Я ведь долго и всерьез занималась плаванием.
— Плавала, наверняка, брассом?
— Почему брассом? Кролем! Я крольчиха. Мы — братцы и сестры кролики.
— Ну значит, — сказал Ковригин, разжигая дрова, — Колумб там и тра-та-та? А дальше что?
— Колумб Америку открыл, чтоб доказать земли вращенье. И дальше — всякая чушь. Знаю, знаю, — поморщилась Лоренца, — вовсе он и не собирался открывать Америку, а из-за поганых турок, захвативших Константинополь с проливами, поперся в Индию обходным путем за какими-то пряностями и кореньями, то ли за гвоздикой или за ванилью, будто без них за столами был бы ущерб аппетитам…
— Бедный Колумб, — вздохнул Ковригин. — А он так и умер, не узнав, что "морем мрака" добрался не до Индии. Одна из радостей сухопутно-преклонных лет адмирала в Испании состояла в том, что ему дозволили передвигаться не на лошади, а на муле, его мучала подагра, и взбираться на мула было легче, да и трясло меньше. Королевские милости. Ты вот училась на коневода или на производителя колбасы "казы", а наверняка не знаешь, что в ту пору в этих двух Лже-Индиях лошади не водились.
— Не знаю, — зевнула Лоренца. — Может, и знала, но забыла… Ну и что?
— Да ничего, — сказал Ковригин.
— Спасибо за лекцию, — сказала Лоренца. — Ты меня занудил. И вроде бы захорошел, языком еле ворочал. А тут тебя понесло как по писанному. Чегой-то ты протрезвел? Под одеяло надо лезть. А ты полез на кафедру. К чему эта лекция?
"И действительно, — спохватился Ковригин. — Что это со мной? Ведь и вправду хорош был, а теперь как протертый тряпкой хрусталь. Неужели она меня так раззадорила и раздосадовала своим "халтурщиком"? Неужто меня так задело мнение какой-то заезжей Лоренцы Шинель?"
— Подожди с одеялом, — сказал Ковригин. — Печка должна отдать тепло. Ты меня сама завела. А с Рубенсом случай такой. Сложилось понятие "Нидерланды во времена Рембрандта". Нидерланды-то тогда процветали. А кто был Рембрандт? Никто. Поставщик товара для заполнения пустот на стене в доме бюргера. Кустарь из гильдии художников, многие члены которой, даже такие, как Хальс или Рейсдал, кончали жизнь в богадельнях. Маляр. Из тех, кого поджидали удобства долговой ямы. Ремесленник, ничем не значительнее кузнеца, красильщика тканей, и уж куда мельче сыродела или торговца тюльпанами. Это теперь мы охаем: Рембрандт, малые голландцы, миллионы долларов, нет им цены! А тогда была цена. Не дороже обоев. Понятно, я тут всё упрощаю… Рубенс был из Фландрии, Фландрия же входила семнадцатым штатом в Нижние земли. Что его подвигало в дипломаты, а по сути и в разведчики — тщеславие, желание вырваться из круга ремесленников в люди знатные, в аристократы, или жажда больших денег и большего почитания? Я пытаюсь понять и истолковать его жизнь, опять же по разумениям нынешнего московского обывателя, мне это необходимо… Может, для тебя это всё халтура, но иного я пока не умею… А для кого-то мои суждения могут оказаться и интересными… Впрочем, с чего бы и на какой хрен я вдруг принялся оправдываться перед тобой?
"Да ведь это не перед ней я оправдываюсь, — подумал Ковригин, — а перед самим собой… Она-то, поди, уже дремлет. Или даже дрыхнет. Эко я опасно и необъяснимо протрезвел. Фразы вывожу складно. Будто держу в голове всё своё сочинение. Нет, надо сейчас же обуздать себя "Кузьмичем"".
И взялся обуздывать.
— Оправдания твои были лишние, — услышал он, глаза Лоренцы были открыты. — А я о тебе знаю и нечто уважительное. Мне приходилось иметь дело с некоторыми твоими знакомыми.
Были перечислены эти знакомые. Имена их Ковригина не удивили. Однако упоминание Лоренцой одного из его приятелей Ковригина насторожило. И даже Ковригину показалось, что Лоренца вспомнила сейчас Лёху Чибикова не просто так, а с неким умыслом, словно знала нечто такое, что Ковригину не хотелось открывать ни ей, ни кому-либо другому. Или ждала от Ковригина вопроса, откуда она знает Чибикова и какой у неё к нему интерес.
Но Ковригин фамилию Чибикова будто бы не расслышал.
— Кстати, дорогой друг, Александр Андреевич, — спросила Лоренца, — а годов-то тебе сколько?
— Тридцать четыре, — сказал Ковригин. — Ну… тридцать пять скоро будет. А что?
— Ничего, — сказала Лоренца. — Выглядишь старше. Лет на сорок — сорок два…
— Изможден превратностями лирических приключений, — сказал Ковригин. — А у тебя я и…
— И не спрашивай. Врать лишний раз не хочу… Но коли ты такой воспитанный и облегчил жизнь Колумбу мулом, пора, наконец, тебе оказать и мне почести гостеприимства. Накормила-то я себя сама… Вон уже какой ливень за окном. Может, в снег перейдет. А сейчас-то мы не протечем?
— Если прольет, то только на террасе, — сказал Ковригин.
— А жаль, — будто бы вздохнула Лоренца. — Но все равно, стели постельку. Белье у тебя, чую, в том ящике. Ага, свежее. Могу доверить тебе снять с меня доспехи.
И Ковригин вовсе не противу желания, а пожалуй, и с охотой проявил себя постельничим или оруженосцем (коли произнесено — "доспехи"), снял с Лоренцы и, будто бы с изяществом, ковбойские сапоги, куртку поднебесную с красными клиньями и кожаные байкерские штаны. Полагал (и даже надеялся на это) увидеть на теле гостьи тончайшее (или напротив — "под деревню"), призывающее к эротическим подвигам белье, но под курткой и штанами обнаружилось нечто сплошное, то ли резиновое, то ли из неведомых Ковригину субстанций одеяние космических или подводных предназначений. Ноги Лоренцы Ковригина удивили и, уж точно, разочаровали: длиннющие, они, похоже, были без радующих мужиков утолщений у бедер и могли держать на себе известную в восточно-славянском фольклоре избушку. "А ещё заявляла, что занималась кролем!" — засомневался Ковригин.
— И это всё? — строго спросил Ковригин. — Я укладываюсь на лежанку вон у той стены и гашу свет.
— Как это всё! — возмутилась Лоренца. — А любовь оруженосца к госпоже? Без этого сегодня нельзя. Лампу настольную оставь. И поднеси мне напиток богов. Конечно, было бы замечательно произвести сейчас омовение, допустить к телам прислугу с благовониями, зажечь свечи в канделябрах, не эти, конечно, огрызки, что в вашем бунгало, позвать толпящихся у дверей музыкантов, шутов и в особенности — бродячих жонглеров. Но откуда всё это нынче взялось бы!
— Вечная помпезность великого шутовства снобов и сильных мира сего, — произнес вдруг Ковригин чьи-то чужие слова.
— Это ты о чём? — взволновалась Лоренца.
— Ни о чем, — быстро сказал Ковригин. И обратился к "Кузьмичу".
— Насчет бродячих жонглеров ты определенно не прав. Сама всю жизнь стремилась быть бродячим жонглером. Да где же ты? Иди сюда. С нектаром. И со своей телесной оболочкой. И брысь под одеяло!
Под одеялом тело Лоренцы было обнадёживающе (впрочем, и пугающе) голое, "не бойся, — сказала она, — оно уже наполненное", руки исследователя Ковригина сползли вниз, и были им обнаружены достойные Венеры бедра, ноги же Лоренцы (и на ощупь, не одними лишь руками на ощупь) оказались, как пришло в голову Ковригину, пышнобокими — и вверху, и у икр, а ягодицы её требовали более длительных и сладостных изучений, и руки Ковригина на время были отозваны им к плечам и груди Лоренцы.
— Что ты застрял на мне? — выразила недоумение Лоренца. — Бородавки, что ли, или перья какие или роговые наросты ты ищешь на мне? Напрасно. Всё на мне как положено. А может, и лучше, нежели положено. И рыцарю твоему уже пора войти в мой дворец. Мы созрели…
Позже, впадая в дремоту, Ковригин посчитал, что потолок над ним протек, и это было странно, крыша чердака над комнатой никогда не текла.
Вышло, что Ковригин проспал до двух часов среды. Если бы не Кардиганов-Амазонкин, спал бы и до вечера.