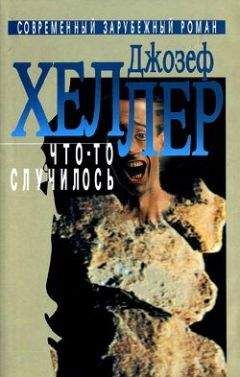Служащие Фирмы, например, очень стараются свести к минимуму всякие трения (Фирма побуждает нас все восемь часов в день вращаться вокруг друг друга, точно самосмазывающиеся подшипники, не дребезжа и не царапаясь) и избегают открытых ссор. Считается, что лучше нам воевать тишком, поносить друг друга за глаза, чем открыто выказывать хотя бы подобие недовольства. (Тайные нападки можно отрицать, переврать, преуменьшить их значение, а открытый спор происходит на виду, и хочешь не хочешь начальству приходится принимать какие-то меры.) Мы все обращаемся друг к другу по-родственному, по именам, особенно к тем, кого не выносим (чем сильней мы их не выносим, тем более по-родственному стараемся держаться), и о женах и детях тоже всегда справляемся по именам, даже если никогда их не видели или встречались всего раз-другой. Впрочем, секретаршам, машинисткам и служащим экспедиции права на эдакую милую простоту и непринужденность не дано; такое обращение принято с теми, кто стоит на иерархической лестнице не более чем двумя ступеньками выше тебя. Я могу называть Джека Грина – Джеком, и Энди Кейгла – Энди, и даже Артура Бэрона – Артом, но уже всех, кто выше Артура Бэрона, только мистер такой-то. Иначе это было бы не только опасно, но и грубо, а я стараюсь не быть грубым (ни с кем, кроме своих домашних), даже когда это безопасно. Даже Джейн из Группы оформления, когда мы встречаемся где-нибудь в узком коридорчике (иногда, если на меня нападает особое легкомыслие, я назначаю встречу по телефону) и перебрасываемся шуточками, все еще уважительно называет меня мистер Слокум, хотя в разговорах мы с ней уже зашли довольно далеко. Прежде я подбивал девушек, за которыми приударял, называть меня по имени, но на опыте убедился, что всегда лучше, безопаснее и вернее соблюдать расстояние между начальником и сотрудницей даже в постели. (В постели особенно.)
Фирма почти никогда не увольняет своих служащих, если они перестают справляться с работой или отвечать требованиям времени, их вынуждают раньше срока уйти на пенсию или переводят на незначительные, вновь созданные должности, где у них нет ни подлинных обязанностей, ни власти, и, оробевшие и несчастные, они сидят там до тех пор, пока остаются в Фирме; в этих случаях они получают меньший и менее удобный кабинет, чем прежде, иногда даже вынуждены делить его с кем-то, кто там уже сидит; или, если они еще молоды, им прямо (хотя и вежливо) предлагают подыскать работу получше в другом месте и уволиться. Даже ловкий, молодой, многообещающий директор отделения, который два года назад во время конференции во Флориде однажды днем напился и его вырвало прямо в плавательный бассейн отеля, не был уволен, хотя все знали: в Фирме ему больше не работать. И сам он тоже это знал. Наверно, ему никто слова не сказал. Но все равно он знал. И через месяц после конференции подыскал работу получше в другом месте и уволился.
А вот Грин увольняет служащих, по меньшей мере двоих или троих в год, и не скрывает этого; напротив, едва кого-нибудь уволит, старается, чтобы об этом тут же узнали все и каждый. Нередко он увольняет кого-нибудь для того только, чтобы о нем самом вновь заговорили или чтобы все мы, прочие, ненадолго очнулись. Ведь почти все мы, кто не рассчитывает достичь по-настоящему высоких должностей (в том числе и сам Грин), склонны впадать в спячку и вяло плыть с помощью старых запасов энергии и новых идей, которые удержали нас на плаву в прошлом году. Это одна из причин, почему нам никогда по-настоящему высоко не подняться. Почти все, кто достигает верхов, люди необычайно трудолюбивые, даже если они больше ни на что не способны (а часто они и вправду ни на что не способны. Ха-ха).
Иногда Грин увольняет как раз тех, кто ему по душе и кто работает хорошо (быть может, по этой причине он их и увольняет – оттого, что нет у него никакой причины). Потом он начинает их жалеть и его всерьез заботит их незавидное положение (словно это не он довел их до такого положения). Он пытается подыскать им другое место в нашей Фирме. И чаще всего безуспешно, ибо первоначальное (и несвойственное ему) доброе намерение быстро уступает место жажде хитроумно использовать это в своих интересах и эта злонамеренность заранее обрекает все на провал.
– Он как раз то, что вам надо, – любит говорить Грин, рекомендуя сотрудника своего отдела главе другого отдела, – просто для меня он слабоват.
Поговорив вот так в нескольких местах, он вскоре забывает о тех, кого уволил, и они уходят.
Он очарователен (ха-ха). Во время важных совещаний, планирующих дальнейшую работу, которые происходят каждый квартал в роскошном отеле какого-нибудь курорта или в одном из шикарных загородных клубов, славящихся своими площадками для гольфа, руководители отделений и отделов обычно не спорят, не жалуются, не выражают вслух недовольства работой или точкой зрения друг друга (так мне говорили). А Грин ведет себя иначе: он критикует, высмеивает и, не сдерживаясь, нападает и яростно протестует, когда ему хоть сколько-нибудь урезывают бюджет или не поддерживают его новые предложения. А потом сам об этом жалеет. Сгоряча раскачивает лодку, а после пугается, что утонет. Он начитаннее почти всех в Фирме и с нарочитой учтивостью подчеркивает свое интеллектуальное превосходство, отчего даже Артуру Бэрону становится не по себе, а Энди Кейгл и все прочие в Торговом отделе чувствуют себя невежами и невеждами. (Я гораздо образованнее Грина и, вероятно, умнее, но он языкаст и нахален, а я нет.) Вести о его находчивости и вызывающем поведении на этих совещаниях (Грин даже в гольф не играет) обычно просачиваются и к нам (главным образом через него самого), и часто мы гордимся, что работаем под его началом; но я знаю: его неизменно мучит страх, что на этот раз он зашел слишком далеко. Грину тревожно оттого, что все, кто имеет в Фирме вес, его не любят, и он прав; но он не прав, когда думает, будто это только оттого, что они ему завидуют. (Он и правда не из тех, кого любят.) У Грина немало и других тревог, потому что в нашей большой Фирме служат главным образом протестанты.
Грин, к примеру, боится Филипа Ривза, робкого, молодого, низкооплачиваемого сотрудника своего отдела, и меня это здорово забавляет: я знаю, что Филип Ривз протестант, англичанин, человек, окончивший Иейль, – боится Грина; и каждый жалуется мне на другого. Ривз доверяет мне, потому что считает меня дельным, честным и скромным; он знает, что я не дурак выпить и позабавиться с девочками, и потому чувствует, что мне можно довериться.
– Каждый раз, как нужно зайти к нему в кабинет, меня прямо в дрожь кидает, – жалуется мне Ривз на Грина. – С порога встречает меня всегда каким-нибудь ехидным словечком, а я никак не могу найтись, не могу достойно ответить. Он меня замораживает. Я прямо цепенею, теряю дар речи. Он о чем-нибудь спрашивает, а я в ответ только согласно киваю, или, наоборот, мотаю головой, или бормочу какую-то невнятицу, стою с дурацкой улыбкой и слова толком не выговорю, а он язвит и язвит. Я его даже и не виню. Всякий раз после не могу себе простить, что показал себя таким тупицей, двух слов не мог связать.
– Каждый раз, когда нужно вызвать его к себе в кабинет, меня прямо в дрожь кидает, – жалуется мне Грин на Филипа Ривза. – Это все, наверно, из-за его хороших манер и из-за этого пошлого хорошего воспитания. Я могу перенести хорошие манеры, могу перенести хорошее воспитание, но и то и другое сразу – это уже слишком. Они выбивают меня из колеи, и, когда я слышу, какие слова слетают у меня с языка, и сознаю, что делаю, мне кажется, будто я не я, а какой-то незнакомый болван. Встречаю Ривза невинной шуткой, хочу малость разрядить атмосферу, а он станет как вкопанный и глядит на меня с эдакой ледяной надменной улыбочкой. И не добьешься от него ни слова. Я начинаю трещать без умолку, стараюсь держаться по-дружески, болтаю глупости, а он знай стоит, смотрит свысока и этак пренебрежительно ждет, когда я кончу. Должно быть, он меня презирает, и я его даже не виню. Но черт возьми, он-то ничего не делает, чтобы разрядить атмосферу, можете мне поверить. Всякий раз после не могу себе простить, что показал себя таким тупицей и слабаком. Хотел бы я знать, почему я его не увольняю. Да потому что это значило бы, что я расписываюсь в поражении, вот почему, а ведь работник он никудышный.
Я не рассказываю им друг про друга (правда, стараюсь подбодрить Ривза). Ни тот ни другой бы мне не поверил, и ничего хорошего бы из этого не вышло. Они противопоказаны друг другу – это ясно как день, и ничего тут не изменишь: раз уж между двумя людьми возникло такое, это обычно на всю жизнь.
Грин противопоказан мне.
– Похоже, меня хотят уволить, – неожиданно выпаливает Грин. – Им бы надо избавиться от Кейгла, но, похоже, Кейгл и Гораций Уайт в конце концов их уговорили. Все ваш дружок. Вы много чего знаете. Пойдите и разузнайте у Кейгла, или у Брауна, или у кого-нибудь еще, что собственно, происходит. А не то я уволю вас.