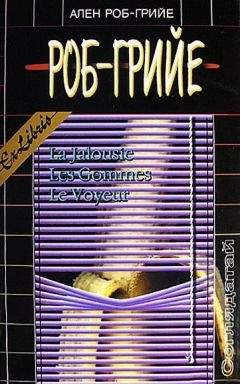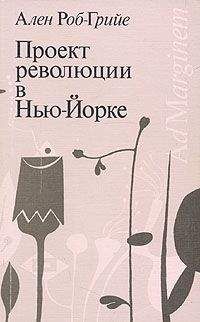Вот опять открытые ставни и дешевые занавески с вышивкой: под деревом два пастуха в античных одеяниях поят овечьим молоком голого младенца.
Уоллес продолжает путь все тем же твердым, упругим шагом, одинокая фигура на фоне закрытых ставень, у подножия кирпичных домов. Он шагает. Жизнь вокруг него еще не началась. Только что, на бульваре, навстречу ему проехала на велосипедах в сторону порта первая группа рабочих, но больше он никого не встретил: служащие, коммерсанты, матери семейств, школьники – все они еще не подавали голоса, не показывались из своих запертых домов. Велосипедисты исчезли, и начатый ими день вернулся на несколько движений назад, подобно спящему, который, протянув руку и выключив будильник, дает себе несколько минут отсрочки перед тем, как проснуться по-настоящему. Через секунду веки поднимутся, город стряхнет с себя мнимый сон, мигом вольется в ритм порта, и когда разрешится этот диссонанс, время для всех начнет одинаковый отсчет.
Уоллес, ранний прохожий, движется сквозь эту мимолетную паузу во времени. (Так человек, припозднившийся в ночи, часто не знает, какому дню принадлежит сомнительное время, в котором протекает сейчас его существование; мозг, утомленный вчерашней работой, тщетно пытается восстановить последовательность дней, и дело, начатое вчера вечером, придется заканчивать завтра, ибо между вчера и завтра больше нет места настоящему. Вконец обессиленный, он бросается на кровать и засыпает. Позже, проснувшись, он окажется в своем обычном сегодня.) Уоллес шагает.
Уоллес шагает, не отклоняясь от своего пути и не теряя скорости. Впереди него женщина переходит улицу. Старик тащит к воротам дома пустой помойный бак, стоявший на краю тротуара. На витрине тремя этажами выставлены в прямоугольных блюдах маринованные анчоусы, копченые шпроты, рольмопс, сельдь соленая, пряная, сырая или вареная, в рассоле, в масле, копченая, жареная, маринованная кусочками и рубленая. Немного дальше из дома выходит господин в черном плаще и шляпе и направляется ему навстречу; возраст зрелый, положение обеспеченное, пищеварение часто расстраивается; он проходит всего несколько шагов и исчезает в дверях чистенького кафе, наверняка более уютного, чем то, в котором ночевал он сам. Уоллес вспоминает, что прогуливается натощак, но решает позавтракать в большом современном кафетерии на одной из площадей или магистралей, какие обязательно должны быть в центре любого города.
Следующие поперечные улицы отходят от этой под тупым углом, а значит, свернув на одну из них, он отклонился бы от цели, возможно, даже снова оказался бы там, откуда шел.
Уоллес любит ходить. Ему нравится идти по этому незнакомому городу вперед, не сворачивая, в холодном воздухе начинающейся зимы. Он смотрит, слушает, вдыхает запахи; этот постоянно обновляющийся контакт создает у него приятное ощущение последовательности: он идет, понемногу наматывая непрерывную линию своего пути, – не цепь бессмысленных, бессвязных картин, но цельную ленту, где каждый элемент сразу вплетается в канву, вплоть до самых случайных, даже таких, которые на первый взгляд могут показаться абсурдными, или угрожающими, или устаревшими, или обманчивыми, все они чинно занимают свои места, и ткань, без прорех и узелков, растягивается согласно ровному ритму его походки. Ведь это он тут шагает; это его тело движется, а не декорация, которой управляет рабочий сцены; он может следить за тем, как сгибаются и разгибаются его суставы, как сокращаются мышцы, он сам определяет ритм и длину шагов: полсекунды на шаг, полтора шага на метр, восемьдесят метров в минуту. Он по своей воле идет навстречу неизбежному и совершенному будущему. Прежде он слишком часто попадал в заколдованный круг сомнения и бессилия, а теперь он идет, и время снова работает на него.
На стене вокруг школьного двора – три желтые листовки, приклеенные вплотную друг к другу, три экземпляра какого-то политического заявления, напечатанного мелким шрифтом, но с громадным заголовком: «Внимание, граждане! Внимание, граждане! Внимание, граждане!». Уоллесу знакома эта листовка, она расклеена по всей стране и уже примелькалась, – то ли профсоюз предупреждает о происках трестов, то ли сторонники свободной торговли протестуют против импортных пошлин, такую литературу обычно никто не читает, разве что какой-нибудь пожилой господин остановится, нацепит очки и примется старательно водить глазами по строчкам, сверху донизу, потом отступит на шаг, чтобы изучить все целиком, покачивая головой, опять положит очки в футляр, а футляр в карман, затем пойдет дальше с растерянным выражением лица, словно спрашивая себя, не упустил ли он самое главное. Среди привычных слов вдруг торчит, точно фонарь, какое-нибудь мудреное выражение, и фраза, которую оно озаряет своим неверным светом, будто бы таит в себе массу всего, либо же вообще ничего. Тридцатью метрами дальше видна с обратной стороны вывеска автошколы.
Затем улица снова пересекает канал, менее узкий, чем предыдущий, по которому медленно приближается буксир с двумя баржами, груженными углем. Человек в темно-синем кителе и форменной фуражке только что перекрыл вход на мост с противоположного берега канала и теперь направляется к другому концу моста, навстречу Уоллесу.
– Переходите скорее, сейчас разведем! – кричит он.
Поравнявшись, Уоллес слегка кивает ему:
– Что-то нежарко сегодня!
– Да, началось, – отвечает тот.
Короткий приветственный гудок буксира: Уоллес видит над переплетением металлических балок разваливающийся столб пара. Он толкает дверцу. Раздается звонок, – это сигнал, что на другом конце моста сейчас включится машина. В ту минуту, когда Уоллес закрывает за собой дверцу, настил моста позади него размыкается и под гул мотора и скрежет шестеренок начинает подниматься.
Наконец Уоллес выходит на очень широкую магистраль, точь-в-точь как Бульварное кольцо, по которому он шагал рано утром, только вместо канала здесь расположенный в центре тротуар, окаймленный молодыми деревцами; доходные дома в шесть-семь этажей перемежаются более скромными, почти деревенского вида постройками и явно промышленными зданиями. Такое сочетание характерно скорее для предместья, и Уоллес удивляется. Перейдя улицу, чтобы свернуть вправо на открывшийся перед ним широкий проспект, он с изумлением читает на угловом доме: «Бульварное кольцо». И оглядывается кругом, сбитый с толку.
Не может быть, чтобы он сделал круг, ведь от самой улицы Землемеров он все время шел прямо; наверно, он слишком отклонился к югу и срезал сегмент города. Придется спросить дорогу.
Прохожие спешат по делам. Уоллес предпочитает их не задерживать. А потому решает обратиться к женщине в фартуке, которая на противоположной стороне улицы моет тротуар перед своим магазином. Уоллес подходит к ней, но не знает, как сформулировать вопрос: пока что у него нет определенной цели; спрашивать о полицейских участках, куда он должен зайти чуть позже, ему совсем не хочется, не сколько из профессиональной недоверчивости, столько из желания сохранить удобный нейтралитет, не возбуждать по неосторожности опасения или просто любопытства. Из тех же соображений не стоит называть и Дворец правосудия, который, как ему сказали, находится напротив генерального комиссариата и вряд ли может вызвать интерес как памятник архитектуры. Увидев его вблизи, женщина выпрямляется и останавливает движения швабры.
– Извините, мадам, вы не скажете, как пройти к почтамту?
На секунду задумавшись, она отвечает:
– Почтамт? Что значит «почтамт»?
– Я имею в виду главную почту.
Кажется, вопрос задан неудачно. Возможно, тут несколько больших почтовых контор, и ни одна из них не расположена в центре города. Женщина смотрит на швабру и говорит:
– Почта есть тут, недалеко, на бульваре. (Она указывает в ту сторону подбородком.) – Мы обычно ходим туда. Но сейчас там наверняка еще закрыто.
Итак, вопрос был не лишен смысла: в городе есть только одна почтовая контора с телеграфом, которая работает по ночам.
– Да, но ведь где-то должна быть такая почта, откуда сейчас можно дать телеграмму.
К несчастью, его заявление, по-видимому, вызывает сочувствие у дамы.
– А, так вам нужно дать телеграмму!
Она опускает глаза на швабру, а Уоллес пробует отделаться от нее не очень уверенным «да».
– Надеюсь, ничего серьезного? – произносит дама.
Это как бы и не вопрос, а скорее вежливое пожелание с легким оттенком сомнения; но больше она не говорит ничего, и Уоллес вынужден ответить.
– Нет-нет, – говорит он, – благодарю вас.
И снова ложь: ведь ночью умер человек. Стоит ли объяснять, что это не член его семьи?
– Ну что ж, – говорит женщина, – если вам не к спеху, то вон там – почта, которая открывается в восемь.