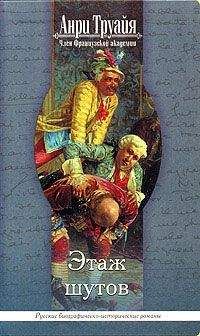Каждая дочкина слеза была свята. И каждый зуб. И каждое новое слово. И сейчас нет ничего, что несущественно: контурные карты, сборник этюдов Гедике, длина джинсов, ограничения в еде. То, от чего Наташа отмахивалась, для Володи имело жизненно важное значение, не может девочка быть толстой и" ходить в коротковатых джинсах. Неправильная внешность — это бескультурье. И нет ничего, что между прочим. Во всем должен быть порядок. В доме должен быть порядок — и она убирает, пылесосит, проветривает. В доме должен быть обед. И она, как на вахту, каждое утро выходит к плите. Еда должна быть грамотной и разнообразной — и она сочиняет соусы, заглядывает в поваренную книгу, и это действо из унылой обязанности превращается почти в творчество.
Семья собирается за обедом, перетирает зубами витамины, белки и углеводы. А она сидит и смотрит и испытывает почти счастье. Жизненный процесс обеспечен, и не только обеспечен, а выдержан эстетически. Грамотная еда, на красивых тарелках, на чистой скатерти. Его высочество Порядок. Порядку служат. Ему поклоняются. Порядок — это твердый остров в болоте Беспорядка. Есть куда ногу поставить. А сойдешь — и жижи полный рот. А потом засосет до макушки и чавкнет над головой. И все дела.
Что было бы с ней, если бы не было Володи? Зачем обед? Можно и так перекусить. Зачем торопиться домой? Можно ночевать где угодно, где ночь застанет. Носить с собой, как Галька Никитина, зубную щетку в сумке. А сейчас она из любых гостей, из любой точки земного шара возвращается вечером домой. И садится с семьей у телевизора. Володя — в кресло. Она с дочкой — на диване, плечо к плечу. Климат в доме — как в сосновом бору. А посади вместо Володи Мансурова — и климат переменится. То ли замерзнет дочь от одиночества. То ли Наташа задохнется от засухи. То ли вообще нечем дышать, как на Луне.
Иногда Володя приходит злой и ступает по дому, как бизон по прериям. Или наступает целый период занудства, когда он недоволен жизнью, у него такое лицо, будто ему под нос подвесили кусочек дерьма. И надо терпеть. Но терпеть это можно только от Володи. А не от Мансурова. Мансуров может вызвать аллергию, как, например, собачья шерсть. И начнешь чесаться. Почешешься, почешешься, да и выскочишь в окно вниз головой.
Да и где этот Мансуров? Ку-ку… Где он режет воздух своей иноходью ахалтекинца? В каких краях белеет его парус одинокий в тумане моря голубом? Наверное, понял, что Наташа — жертва Порядочности, и решил не тратить душевных ресурсов. Прогоревшее мероприятие надо закрывать, и как можно скорее.
Мансуров — это бунт против Порядка и внутри Порядка. Шторм, когда морю надоедают свои берега и оно бесится и выходит из берегов, чтобы потом опять туда вернуться и мерно дышать, как укрощенный зверюга.
Она вдруг подумала, что если бы сейчас здесь появился Мансуров, подошел, проваливаясь в снег, — сделала бы вид, что не узнала. Что было, то было и так и осталось в том времени. А в этом времени есть Володя, она и их домик за забором. Если бы Мансуров, например, затеял с Володей драку, она приняла бы сторону мужа и вместе с ним отлупила бы Мансурова. Хоть это и негуманно.
Конечно, хорошо вытянуться во всю длину человека, подключенного к станции «Любовь». Но это только часть счастья, как, например, часть круглого пирога, именуемого «жизнь». В сорок лет понимаешь, что станция «Любовь» — понятие неоднозначное. Не только — мужчина и женщина, но и бабушка и внучка. Девочка и кошка. Любовь к своему делу, если дело достойно. Любовь к жизни как таковой.
Любовь к мужчине, бывает, застит весь свет, как если взять кусок пирога и поднести его к самым глазам. Глаза съедутся к носу, все сойдется в одной точке — и уже ничего, кроме куска пирога, не увидишь. А отведешь его от глаз, положишь на стол, посмотришь сверху, и видно — вот кусок пирога. Лежит он на столе. Стол возле окна. А за окном — весь мир. И выйдя в этот мир, не перестаешь удивляться краскам неба, форме дерева — всем замыслам главного художника — Природы. И это не исчезает, как Мансуров. Это твое: твоя дорога в школу, твои дети, твое дело. Твоя жизнь. Ты в этом уверен до тех пор, пока ты человек, а не тело. А уверенность — те же самые сухие острова, пусть не в болоте — в море страстей. Нельзя же все время плыть. Надо и отдыхать. Его величество Покой — тоже часть Порядка. Или Порядок часть Покоя. Не успокоения, а именно Покоя, в котором можно сосредоточиться и набраться сил и мыслей для своего Дела.
Что касается вечного успокоения — если смерти надо выбрать из двоих, — пусть это будет она. А Володя останется и научит дочь таланту терпения. Поможет обрести ей дом.
Дом — это как вера. К одним он приходит смолоду и сразу. А другие обретают дом мучительно, через сомнения, страдания и потери, уходят из него, как блудные дети, чтобы вернуться обратно. Обрести и оценить.
Наташа представила себе дочь, и слезы ожгли глаза. Стало жаль ее, и Володю, и себя — меньше, чем их, но тоже очень жаль за то, что ушла молодость. Вернее, она никуда не делась, но жить осталось мало. Пусть даже — не сорок минут. Сорок лет. Но сорок лет тоже очень мало, и в каком-то смысле — это сорок минут. Во вторую половину жизни время идет скорее. Как путь под уклон.
Володя закурил. Наташа поглядела сбоку, как он курит, — на руки с почти совершенной формой ногтей. Манеру затягиваться, щурясь от дыма. Позвала:
— Володя…
Он обернулся с выражением глубокого внимания, и это выражение очень ему шло.
Наташа хотела сказать: «Я люблю тебя», — но постеснялась и сказала:
— Я завтра пойду в психдиспансер. Обязательно.
— Тогда поедем!
Володя протянул ей руку, и они зашагали по сугробам, погружая ноги в прежние следы.
Сели в машину — за пять минут до предсказания. Они просидели на дереве тридцать пять минут. А казалось — полдня прошло.
— Пристегнись! — велел Володя.
Ехали молча. Миновали старую полуразрушенную церквушку. На крыше стояла береза, пушистая от мороза, и сочетание первичной природы со стариной выглядело значительно и щемяще.
Проехали мостик над речкой.
— Хорошо здесь летом, — предположила Наташа.
Съехав с мостика, увидели бабу в трех платках и с огромным мешком. Она стояла посреди дороги и, приметив машину, не сдвинулась с места, а, казалось, подставила подол, чтобы поймать в него машину.
Объехать ее было невозможно. Она бы не позволила.
— Осторожно! — испугалась Наташа.
Володя остановился перед бабой.
— До Ясенева довезешь? — спросила баба. Володя открыл дверь. Баба тут же влезла в машину и втащила свой мешок.
— У меня золовка в Ясеневе живет, — объяснила баба. — Я у ней переночую, а завтра с утречка на базар. Там у меня мясник знакомый. Он мне кабанчика разрубит. А вам все равно в ту сторону.
Все было справедливо. Володя проверил — опущена ли кнопка. Поехали дальше.
Наташа подозрительно покосилась на мешок. Спросила:
— А что у вас в мешке?
— Так кабанчик, — удивилась баба.
— Дикий?
— Почему дикий? Из хлева.
— Живой?
— Почему живой? — опять удивилась баба. — Заколотый.
— Тело? — догадалась Наташа.
— Но почему же тело? Туша.
Баба и Наташа внимательно поглядели друг на друга. Наташа — обернувшись. Сверяла предсказания с реальностью. Баба — прямо. Видимо, Наташа ей не показалась. Почему надо везти на базар живого дикого кабана? Или почему надо покойника везти в мешке к золовке?
Наташа отстегнула ремень. Вздохнула всей грудью.
— Не будем звать гостей, — сказала она. — Ну их…
— Ясновидящий… — передразнил Володя. — Свинью с человеком перепутал.
— Так он же старый, — заступилась Наташа. — Что-то видит, а что-то нет. Как в картах. Там же тоже фамилии не называют.
Дорога лежала ровная, просторная, не требовала к себе внимания.
— А почем вы продаете? — Наташа обернулась к бабе.
— Шесть рублей килограмм. А телятину — семь. Наташа качнула головой.
— Дорого…
— А ты сама вырасти и выкорми, — предложила баба.
— Где? На балконе? В ванной?
— В ванне… — передразнила баба. — То-то и оно… А это я вам вашу лень продаю. По шесть рублей за килограмм. Лень дорого стоит.
Подъехали к Ясеневу.
Баба сошла и, уходя, бросила Наташе в колени мятый рубль.
— Не надо, — смутилась Наташа. — Что вы делаете?
— Бери, бери, — разрешила баба. — Щас меньше рубля ничего не стоит.
Баба ушла.
— Лошадь бескрылая, — определила Наташа и переложила рубль с колен в Володин карман. Этот рубль ей не нравился.
«Не возьму больше сумку», — решил про себя Володя и представил себе, как они сойдут с самолета, сядут в машины и поедут в гостиницу. Нефедов вдруг спохватится и спросит: «А где моя сумка?» А он ему ответит: «А где вы ее оставили?»
Въехали в город.
Предсказание осталось позади, как полуразрушенная церквушка. Может быть, старик и ясновидящий, но колдовской заряд тоже поддается времени и иссякает вместе с жизнью. На смену старым колдунам приходят новые, молодые колдуны, которые называются сейчас модным словом «экстрасенсы». Однако сорок минут кончились и можно было жить дальше — сосредоточиваясь и не сосредоточиваясь. Как получится. Его величество Порядок удобно расселся на своем удобном троне.