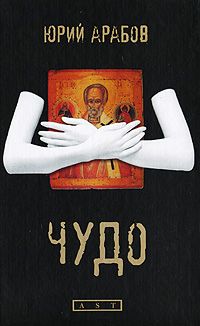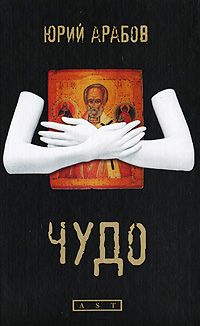Рыбка сделала несколько неуверенных гребков в тяжелой, вредной для нее массе.
Заслонила собой солиста народного хора. Уставилась в удивлении на него, потому что солист тоже стал похож на рыбу.
Светало. Часы на вокзале показывали половину девятого утра. К оледенелому перрону Гречанска медленно подвалил пассажирский поезд областного значения, весь составленный из «жестких» вагонов безкупейной плацкарты. В те годы остаточная, уходящая в небытие жесткость, не равнодушная, как сейчас, но тем не менее вполне опасная, наградила обыкновенный плацкартный вагон собою, позволяя экономить на дороге до 50 рублей и заставляя думать, что она, эта жесткость, может стать вполне целесообразной и даже полезной.
Паровоз с красной звездой на круглой морде выпустил струю пара и со скрежетом остановился.
На перрон начали вылезать заспанные пассажиры с неуклюжим багажом в руках, с баулами, авоськами, деревянными чемоданами, перевязанными веревками и ремнями.
Николай, одетый в импортный легкий плащ, в фетровой шляпе и с кожаным портфелем в руках был среди них белой вороной, европейцем. Плащ был сделан из пластиката, его привезла от восточных немцев двоюродная сестра жены Натальи, а туда он попал из Австрии. Для зимы он не подходил, для весны тоже, а для лета был слишком душным. Но все равно в нем чувствовалась какая-то нездешняя сила. В пластикате ходили герои американских фильмов начала пятидесятых, и был он предвестником знаменитой болоньи, прорвавшей через десяток лет все государственные кордоны и хлынувшей в СССР мутным потоком.
Артемьев остановился под вокзальными часами, озираясь и ожидая кого-то.
К нему подкатил кругленький мужичок в каракулевой шапке бобриком, энергичный и опрятный, как колобок.
– Товарищ Артемьев? – радостно проворковал он, протягивая руку. – Вы ли это?
– Я. А вы...
Но мужичок не дал ему договорить:
– Кондрашов Михаил Борисович. Уполномоченный по делам религии при местном Совете... А я думал, это иностранец стоит... На уральца вы совсем не похожи!
Николай внимательно вгляделся в розовое гладкое лицо. Оно бы казалось даже приятным, если бы не было столь сладким. Натянутая, словно на барабане, кожа, яркий румянец, заливающий пухлые щеки... Нет. По Артемьеву, порядочный человек не должен щеголять собственным здоровьем и уж, конечно, румянцем. Сутулый, бледный, весь пригибаемый к земле непосильным для решения вопросом... Вот какой должен быть человек. Но с Михаилом Борисовичем все оказалось сложнее. Николай не заметил некоторую асимметричность в его лице, а следовательно, пропустил тайну Кондрашова.
– Как доехали? Не укачало?
– Да не спал всю ночь. Одно слово: пятьсот веселый, – пожаловался Николай, имея в виду номер поезда. – То ребенок заплачет, то сосед захрапит...
– Что поделаешь... Тут нет мягких вагонов. Провинция. Вы не против, чтобы я подвез вас до гостиницы? Машина ждет на площади.
– Какая гостиница, вы что? – раздраженно заметил Артемьев, чувствуя, что кровь в его жилах начинает клокотать от негодования. – Мне интервью взять и уехать. У меня дела. А задерживаться в Гречанске я не намерен.
– Тогда, может быть, перекусим в местном буфете?
– Послушайте... Как вас там? – терпеливо, подавляя подступившую ярость, пробормотал Николай.
– Михаил Борисович.
– Вот именно. Я перекусил в поезде. Чай с бутербродами, понимаете? Мне нужно работу сделать и поскорее уехать от вас, понимаете?
– Все, все. Молчу, молчу, – и Кондрашов приложил короткие ручки к груди. – Позвольте портфельчик... Вы все-таки гость... Вот так!
Он взял из его рук портфель и быстрыми шагами пошел прочь с перрона.
Внутренне проклиная судьбу, Николай поплелся за ним следом.
У памятника Ленину на площади стояло несколько машин. Кондрашов открыл дверь черной «Победы», блестящей и круглой, как металлический пирожок, сам сел рядом с шофером, а Николай залез на заднее сиденье.
Машина тронулась и, описав полукруг, въехала на улицу, на которой стояли одинаковые кирпичные дома свежей застройки.
– Ну что Свердловск? Шумит? – спросил у Николая Кондрашов. – Не был там целую неделю, а уже соскучился.
– Это Москва шумит. А Свердловск, скорее, дымит. А что здесь?
– Здесь тоже дыму хватает. Уже начали готовиться к посевной. Проверили технику на МТС, заменили устаревшие узлы на тракторах... Скоро март, а там – выходи в поле.
– В народе говорят: «Марток – надевай семь порток», – устало произнес Николай.
– Говорят... – как-то неохотно согласился Михаил Борисович и замолчал.
Артемьев подождал, когда сам Кондрашов продолжит беседу и, может быть, введет в курс дела. Но уполномоченный притих в самый неподходящий момент.
«Победа» повернула на улицу, где стоял одноэтажный «частный сектор» – бревенчатые срубы с затейливыми резными наличниками, одинаковые, как и новостройки. Артемьев заметил, что снег здесь темный, с налетом угольной крошки.
– Вы и пригласили меня для того, чтобы я писал о посевной? – напомнил Николай о своем существовании.
– Ну да... И о посевной тоже, – пробормотал Михаил Борисович, все еще находясь в состоянии прострации.
Артемьеву почему-то захотелось его ударить. В этом, наверное, была виновата бессонная ночь.
– Вы почему такой розовый? – спросил он вдруг.
– В каком смысле? – вздрогнул Кондрашов.
– В смысле кожи. Пьете, что ли, много?
– А-а... Ну, это совсем просто, – улыбнулся уполномоченный. – Сырая рожь. Или пшеница. Годится также овес. За день съедаешь один злак и ходишь, как новенький.
Он не врал. Хотя розовая кожа досталась ему, скорее всего, в наследство от матери, разбитной крестьянки-середнячки, которую чудом обошло прошлое лихолетье и которая умирала с именем Сталина на устах.
– Есть тут у нас одна невыдержанная девица... – перешел, наконец, к делу Михаил Борисович. – И приключилась с ней вполне дикая история...
Он снова замолк.
– Пошла на разбой? Сделала подпольный аборт? – тормошил его Николай.
– Да нет... Если бы... Была у них молодежная вечеринка. Ну, сами знаете, танцы под радиолу, смех, шуточки...
– Водочка, – добавил Николай.
– И водочка тоже. Может, в ней все дело. В общем, стало во время танцев с этой девицей плохо. Что-то вроде окаменения членов, температура понижена, давление тоже... Вызвали «скорую помощь» и быстренько привели в чувство. А мать, религиозница и сектантка, разнесла слухи о том, что ее дочку покарал-де боженька за то, что вела разгульный образ жизни. По городу поползли слухи... ну, сами знаете, как у нас бывает. Вот, собственно говоря, и все.
– И о чем вы хотите, чтобы я писал? О водочке и танцах?
– О слухах, – твердо сказал Михаил Борисович. – О том, что под ними нет реальной почвы. А одно мракобесие отживших свое старух... – Он поглядел в окно. – Мы почти и приехали... Улица Куйбышева... Давай к тридцатому дому, – приказал он шоферу.
– Как зовут девицу? – спросил Николай.
– Татьяна Скрипникова.
– Скрипникова? – с удивлением переспросил Николай, и голос его дрогнул. – А разве она живет на улице Куйбышева?..
Уполномоченный перевернулся на 180 градусов и глянул с заднего сиденья в глаза Николаю.
– А что, вы с ней знакомы? – спросил он с тревогой.
– Да нет. Нет, конечно, – сказал Николай, сам точно не зная, врет он или нет.
– Значит, и вы что-то слышали?
– А что я должен слышать?
– О чуде, – выдохнул уполномоченный, и бывшие доселе добродушными глаза сжались в узкую полоску. – О чуде, который наш боженька совершил?
– Да ничего я не знаю! – нервно отрезал гость и вдруг добавил: – Если начистоту, то и знать не хочу.
– Отчего так?
– Неинтересно. Есть у меня другие дела.
– Но, может быть, это и к лучшему. Равнодушие – залог объективности. И что может быть интересного во всяком бабьем вздоре?
– Ничего.
– Вот именно. А ущерб этот вздор наносит чрезвычайный. Ладно. Сейчас все услышите. Из первых уст. Въезжай прямо во двор, – приказал Кондрашов шоферу.
Деревянные ворота были распахнуты настежь. Машина подъехала к почерневшему крыльцу, и шофер заглушил мотор.
Толстые сосульки свисали с крыши. Дверь деревянного нужника была распахнута настежь. На деревяшке с круглой прорезью лежали куски газеты.
Кондрашов обтер ноги веником, входя в избу. А Николай решил не обтирать свои ботиночки, он заметно волновался, и мысли его были заняты совсем другим...
– Вот она, наша чудесница, – и Михаил Борисович указал на круглую белесую девушку небольшого роста, которая сидела под фикусом в нарядном выходном платье.
На столе дымил самовар, поблескивали чашки дулевского завода, и свежевыпеченные пампушки сами просились в рот. Чувствовалось, что девица под руководством Кондрашова, как могла, подготовилась к этой важной встрече.