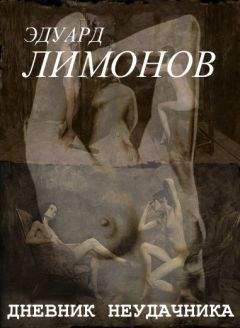Какие чудесные и кровавые ужасы являются в голоде. Какие казни и пытки придумываешь богатым и сытым, сталкиваясь с ними на улицах, когда в шубах и клочьях пара выходят они из ярко освещенных дверей ресторанов. И какое удовольствие, неописуемое для человека с улицы, для человека с голодными глазами, если удается выебать богатую девушку. Где-то познакомиться случайно и выебать. «Я — плебей, — думаешь, — люмпен, а вот ебу тебя! Вот ебу и ебу!»
Это высший секс, если имеешь женщину выше себя, чистую, сытую, другому принадлежащую. Сейчас, когда вошел я уже в возраст, хочется мне частенько выебать ухоженную, начинающую полнеть даму из высшего света, почтенную мать и супругу какого-нибудь седовласого идиота.
Выебать ее грубо, не считаясь с ней, по-простонародному, без лишних прелюдий и ласк. Фройд,
Фрейд, Старый Зигмунд — когда появляется этот тяжелый зад из ее благоухающих тряпок, я забываю все, чему вы меня учили, и только месть, месть и месть: «Я ебу не по праву их женщину, их женщину!»
Говорят, черные мужчины испытывают это, когда обладают белой женщиной. Я не черный, но испытываю.
Я затаился, в секрет ушел. Учусь. Сижу на кухне в миллионерском домике — прислугин друг и любовник — кто там меня замечает, жду моих времен, когда мой 1917 год грянет. А до тех пор комнаты помою, иной раз дверь подкрашу, где шуруп ввинчу, юбку сошью, брюки переделаю — подкармливаюсь. Жена лорда — гостья из Лондона — вчера мне комплимент сделала: «Какие у вас сапоги красивые». Хотел я в ответ сказать: «Какая у вас рожа ничтожная. И у вашей королевы тоже», — но смолчал. Не буду, думаю, зря обижать. Что она обо мне знает!
Приятель же этой леди или любовник, архитектор знаменитый, проходя через кухню за очередным дринком, мельком взглянул на мои руки и в восторг пришел: «У вас руки творческой личности», — произнес. Тут уж я не мог отказать себе в удовольствии и с осторожным, понятным только мне ехидством сказал: «Может быть, разрушительной личности, кто знает?»
Так я хожу среди врагов, учусь, молча, тихо в уголке сижу, рот особенно не открываю, слушаю больше, жду, когда в силу войду. Вот тогда поговорим. Ученье у меня сейчас.
А у леди из Лондона даже свой слон есть. Я фото видел — она на слоне сидит. В Лондоне.
Осень. Холодно сделалось. А в отеле поднимешься на свой этаж — грязно, тепло и запах пизды. Даже уютно. Проституток здесь много живет потому что.
Идешь по улице, кепочку надвинул, бархатный пиджачок обтягивает. Стройненький весь — встречаешь частые женские взгляды. Знаешь почему — вид у тебя европейский, лицо тонкое, чем-то как бы и измученное. Женщины любят это. И все же благами своей привлекательности воспользоваться не можешь — жилье у тебя страшное — грязный отель. Вряд ли какая женщина в такое место пойдет. И денег у тебя нет. Даже выпивкой угостить женщину, стаканчиком, не можешь. Бредешь дальше.
Опять нужно ждать — если книгу продам — деньги хоть какие малые появятся. А до тех пор сиди и жди, и довольствуйся тем, что бог послал — всякими страшненькими или с дефектами. Ну, иногда, случайно, и что-то редкое бывает. Говорите после этого о справедливом устройстве общества. Справедливо будет, когда секс от денег зависеть не будет:
— Здравствуйте, мадам. Я вам нравлюсь? — Да.
— А вы — мне нравитесь. Сколько у вас денег?
— Три тридцать.
— А у меня два шестьдесят. Пойдемте купим вина и отправимся в мой грязный отель.
И отправились.
Неопознанное тело в водах Лонг-Айленда. Сырой осенний туман над неопознанным телом, лижет белые пятки неопознанного тела.
Кто она была? с простым ли лицом сидела в ресторане, звонко разговаривая, стлалась ли тенью перед жилистым мужским животом — кто знает. Боже мой, и чего ты наши бедные тела стегаешь, чего морозишь, пронзаешь острым и бьешь… Иногда не бывает крови, но часто застынет липкая…
Осенняя земля, перебитые лопатой корни растений, молодая мертвая рука в мокрой луже с песком. Свитера коттоновый рукав. Плещется тело с монетками в кармане джинсовой юбки. Не вывалились — нет. Так разглядываю, прости, как любимый разглядывает любимую. Погода стоит хилая, топкая, и плещется тело, набегая головой, волосами или набегая левой рукой. И еще океан, океан грязноватенький.
Человек я ужасно любопытный. Помню, одной собаке лизать свой член все совал. Двадцать четыре года мне тогда было. Зима, на кушетке красной я сидел.
Но собака не очень-то хотела, лизнула пару раз и все.
Всю мою жизнь член мой мне покоя не давал.
А в том доме, кроме собаки, еще одно искушение было — тринадцатилетняя дочка хозяйки. Помню, дрожащими пальцами измерял расстояние между одной и другой грудью — блузку ей белую шил. Мамаша присутствовала. И моя тогдашняя жена тоже. Глазели.
Блузка для какого-то пионерского праздника предназначалась.
— Мамочка! Какое ликование в окне!
Революция, мамочка, пришла — пышная, праздничная!
С цветами, с ветками. Радость-то, мамочка! Счастье-то!
— Айда, ребята, на улицу! Там Революция как Христос в наш город пришла. Там у богатых отбирают и бедным дают, там столы накрывают и люди всех видов обнимаются. Там хорошо и песком посыпано…
Румяные щеки начинающей стареть женщины, шея в складках морщин — дико сексуальны.
Хулиганская, косо надетая кепка на голове. Еще красивая, крепко для дождя и ветра одетая, куда-то едет она в автобусе. И туманно глядит на меня сидя, на уровне пояса, я-то стою перед ней. Изредка поднимет голову, взглянет и криво усмехнется из-под кепки.
Я знаю, что она видит. Брюки у меня всегда такие тесные — чуть не лопаются по швам, и, если член встает, это ужасно видно. А от ее румяных щек и морщин на шее он встал и стоит.
Ни я не стыжусь, ни она. Даже близость теплая возникает. К сожалению, бас сворачивает с пятьдесят седьмой улицы на Пятую авеню. Мне выходить здесь. Меня ждет нелюбимая женщина. Мы в последний раз улыбаемся друг другу. Прощайте, кепочка…
Покидая женщину, которую я не любил, на углу, на ветру, в слезах, выбежавшую за мной даже без обуви, я почти плакал сам. (Это та, миллионерова экономка.) Но ушел все же грубо и зло, с нежными и жалкими мыслями о ней внутри.
Дойдя до Второй авеню, вдруг не выдержал и разрыдался под ужасный свет автомашин, сворачивающих направо, натянув свою кепку глубоко на брови. Оставленная своей раненой позой и несчастьем напомнила мне маму, робко махавшую мне в харьковском аэропорту, единственному сыну, уезжавшему навсегда, которого она больше никогда не увидит. Боже, как я жесток!
Что нас гонит, почему не сидим мы с любящими нас в тепле, заботе и счастье. Прости меня Христа ради, экономка, — а?
Левая сторона Линкольн-центра живо напоминает мне кладбище. Черные каменные скамейки, ровные ряды деревьев между ними и над ними. Поразительно темная листва деревьев еще более усиливает сходство с кладбищем, хотя никаких стоячих плит.
Иногда я прихожу и сажусь в сторонке на октябрьском солнышке, думаю о людях и вздыхаю. Чаще всего мои мысли грустные и задумчивые. Мне тридцать четыре года, и я начинаю от человеческих отношений уставать.
Сегодня на каменной плите у ножки скамейки валяется вишенка — ягодка. Я оглядываюсь по сторонам, протягиваю руку, хватаю ее и ем. Вишенка оказывается яблочком, знаете, мелким, райским. В это самое время опять появляется было скрывшееся солнце. Какие же вишенки в октябре.
Мальчики легче переносят лето, чем девочки. Девочки же чувствуют лето всем животом и внутренностями. Для девочек лето липко, им очень тяжело летом упираться своему телу. Они тревожны, пугливы, и нервная система опутывает их прямо поверх одежды. Им все время кажется, что их забивают насмерть яблоками или что их купают в горячем желе из насекомых. Существует опасность щекотки или заползания везде куда не надо. (Вообще женское всегдашнее состояние — как будто они каждую минуту жизни собираются чихнуть.)
Страшно быть девочкой летом. Поскольку я это чувствую, то я сомневаюсь, кто я больше — мальчик или девочка. Притом я твердо знаю, что я странноватый мужчина тридцати четырех лет. Несколько изящный, французистый, с неорганизованной сексуальной жизнью.
Мы пришли ко мне в мой вонючий отель — разделись, и вдруг я ее так обнял, так обнял, с такой нежностью.
Бедная, затрепанная в свои двадцать шесть лет девочка, в бесконечных поисках любви, как мы устали!
Я гладил и ласкал ее всю ночь, воображая, что она моя дочка. Моя бедная маленькая дочка. К тому же она была худенькая и небольшого роста. Вот и у меня сегодня все как у людей, семья вроде, тепло вдвоем в октябре под грубым солдатским, с буквами US, одеялом.