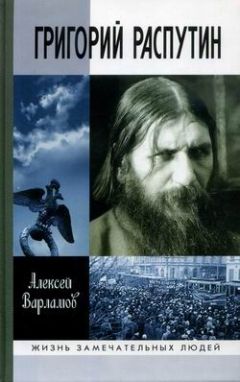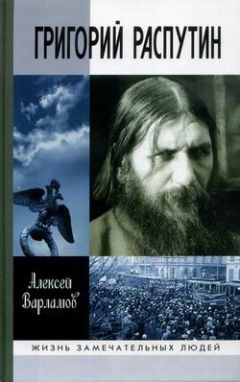Господи, как хорошо не видеть того, что делается на этой земле!
Пашуту подтолкнули: рядом с могилой на деревянных брусках, нарезанных для полатей, уже стояла домовина с Аксиньей Егоровной, ее открытое, успокоенное, сухое лицо было подставлено небу. На лицо падали снежинки. Они взволновали Пашуту больше, чем все, происходившее здесь до сих пор. Она клохтнула неразборчиво и обрадованно, звуком, в котором смешались горечь и утешение, боль и порыв, опустилась перед матерью на колени, только для нее одной выдохнула «прости» и прикоснулась к холодному твердому лбу поцелуем. Ткнулась и Танька в старенькую бабушку и отпрянула, не отводя оцепеневшего взгляда, попятилась.
Дали еще полежать Аксинье Егоровне под небом, с которого, набираясь, спадал снег. До чего кстати этот снег — словно всем им даровалось прощение за беззаконные действия. Словно высшая сила сникала над человеческой слабостью и своевольством. Ветер затихал, прохаживаясь остывающими порывами, небо белело, и лиственницы-близнецы, возвышающиеся над соснами, стояли в нем красиво и грозно.
Пашута пристально смотрела, как опускают гроб, как вытягивают из-под него веревки; беззвучный стон пронзил ее, когда Серега спрыгнул сверху на гроб и принялся наставлять стояки для полатей, которые ненадолго защитят тело Аксиньи Егоровны от каменного гнета. Днем, как она представляла, вместе с матерью и половина ее, Пашуты, отделится и уйдет в могилу. Что ушло, понять было нельзя. Но ушло, меньше ее стало, и стучащие о доски камни, осыпающийся, плотно закрывающий поры песок начинали давить и ее, она хватала ртом воздух, жадно подставляла лицо под снежинки.
Не похожи лицами были они с матерью, но Пашута сейчас видела только сходство. Дышала, дышала учащенно и жадно — и не хватало воздуха.
… - А что, — громко и облегченно говорил Серега, со стаканом водки в руке оглядывая оставляемый холмик. — Хоронят же при дорогах шоферов, когда погибают при исполнении обязанностей. Какая разница — где?! В ту же землю… Правда, Танька?
Танька торопливо закивала. В освещенных недетским прозрением глазах ее стояли слезы. Решительно вступала в свои права зима — снег шел густо, небесный свет его должен был проникать глубоко.
Зимой по богатому снегу Пашута не добрела бы до могилы. Добралась она до нее лишь по весне, когда в лесу еще томились снежные обтаи. Подковыляла к полянке и ахнула: по обе стороны от материнской могилы вздымались еще два холмика. Аксинья Егоровна лежала не одна. Такое славное сыскали место, что появились соседи. Но как и кто среди тучных снегов мог обнаружить ее последнюю обитель?
Удивление Пашуты было настолько велико, что она не выдержала и отправилась к Стасу. Он вышел к ней мятый, с резко обострившимся лицом из тех, которые несут на себе весть, совсем больной. «Заболел, что ли?» — от порога спросила она. «Вроде того», — ответил он.
Прошли опять в кухню. Стас принялся расчищать неприбранный стол, с бряком сваливая посуду в мойку. Все так же черно и коряво заглядывала в окно яблоня, все так же терзал ее ветер. В доме было прохладно и неуютно. Пашута не стала тянуть.
— Стас Николаевич, не забыл, как за городом мать мою перед зимой хоронили? — спросила она, внимательно в него вглядываясь.
— Как же забыть?.. Не забыл…
— Я вчера пошла… и что нашла?.. Рядом с матерью еще две могилы. Целое кладбище. Целую нахаловку, выходит, мы тогда расчали…
Стас глухо сказал:
— Одна могила Серегина. Чья другая — не знаю.
— Как Серегина?! — ужаснулась Пашута. — Ты что говоришь, Стас Николаевич?
— Убили Серегу, после Нового года. Остался я без товарища. Я и подсказал туда свезти, к хорошему человеку. Вместе веселей. И себя заказал туда же.
— Кто убил, почему?
— Он в органах работал, — с нарочитым покашливанием, чтобы не выдавал голос слабость, говорил Стас. — Внедрили его к бандитам в охрану. И сами же выдали на растерзание. Вот так, Пашута. Такая теперь жизнь и смерть.
Последние слова заставили Пашуту всмотреться в него еще внимательней. Не его это были слова, не его интонация, какая-то манерная, жалкая.
— Пьешь ты, что ли, Стас Николаевич? — спросила она.
— Пью, — признался он. — Пью, Пашута. — И, округлив рот, со шлепом бил изнутри по щекам языком.
Она не пожалела его:
— Сильных убивают, сильные спиваются… Кто же останется, Стас Николаевич?
— Кто-нибудь останется…
— Но кто? Ты знаешь их?
— Нет. Все, кого я знаю, не те.
— А где те?
— Я тебе скажу, чем они нас взяли, — не отвечая, взялся он рассуждать. — Подлостью, бесстыдством, каинством.
Против этого оружия нет. Нашли народ, который беззащитен против этого. Говорят, русский человек — хам. Да; он крикун, дурак, у него средневековое хамство. А уж эти, которые пришли… Эти — профессора! Академики! Гуманисты! Гарварды! — ничего страшней и законченней образованного уродства он не знал и обессиленно умолк. Молчала и она, испуганная этой вспышкой всегда спокойного, выдержанного человека. Он добавил, пытаясь объяснить:
— Я алюминиевый завод вот этими руками строил. От начала до конца. А двое пройдох, двое то ли братьев, то ли сватьев под одной фамилией… И фамилия какая — Черные!.. Эти Черные взяли и хапом его закупили. Это действует, Пашута! Действует! Будто меня проглотили!
— Стас Николаевич, да ты оправдания себе ищешь… Не может того быть! Чтобы взяли… всех взяли! Ты же не веришь в это?
Стас улыбался и не отвечал. Странная и страшная это была улыбка изломанно-скорбная, похожая на шрам, застывшая на лице человека с отпечатавшегося где-то глубоко в небе образа обманутого мира.
…На обратном пути Пашута заехала в храм. Впервые вошла одна под образа, с огромным трудом подняла руку для креста. Под сводами нового храма, выстроенного лет пять назад, в будний день и в час, свободный от службы, искали утешения всего несколько человек. В высокое окно косым снопом било солнце, чисто разносилось восторженное ангельское пение должно быть, в записи, истаивая на круглой медной подставе, горели свечи. Неумело Пашута попросила и для себя свечей, неумело возжгла их и поставила — две на помин души рабов Божьих Аксиньи и Сергея и одну во спасение души Стаса.
1995