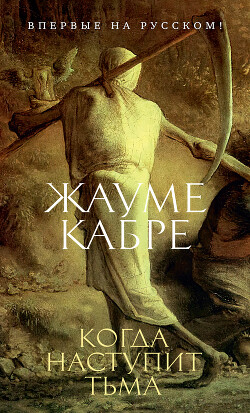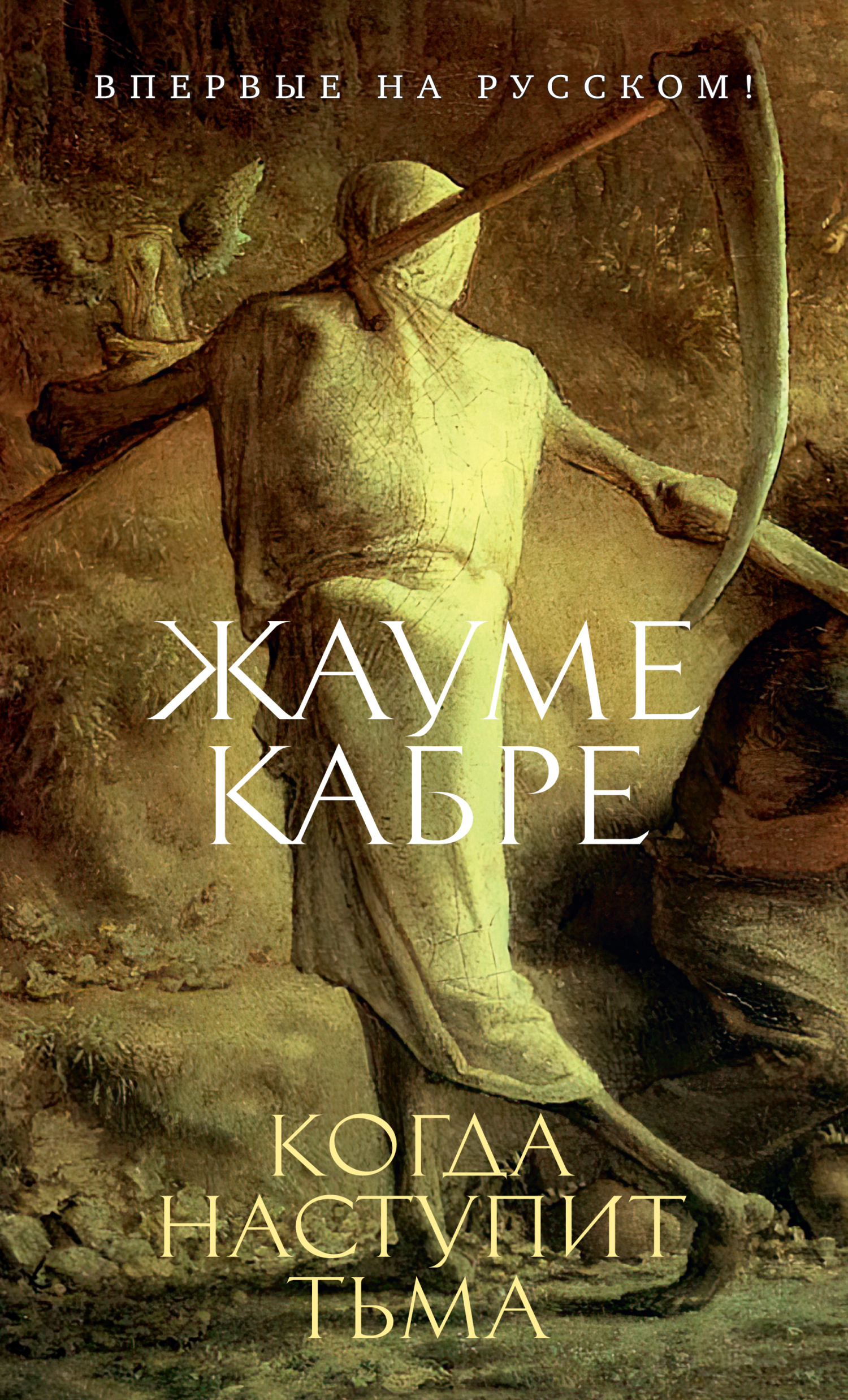– Крыса, – прорычал рослый толстяк, сплюнув на землю.
– Господь вам в помощь, мужички, и ангела в дорогу. – Я, улыбаясь, раскинул руки в знак радушного гостеприимства.
– Чего?
– Господь, говорю, вам в помощь, и доброго ангела.
– Черт тебя дери, Господь ему в помощь! – Он обернулся к своим тупым помощникам. – Проверьте клейма на баранах, а у кого их нет, так заклеймите.
Тупые пошли разглядывать скотинку. У почти двух десятков обнаружили клеймо на ноге. Я и не подозревал, что уже несколько месяцев Карега специально для скотокрадов вроде меня клеймил свою животину крошечной отметиной, которую просто так не найдешь. Пройдоха. Шестерки прямо на месте пометили каленым железом всех тех овец, которых Кривой и не думал клеймить, не подозревая, что у скота, пасущегося в Пальярсе, могут быть другие хозяева, кроме него. А в это время главный на меня глядел, жевал травинку, лыбился и бог знает о чем думал.
– Пятьдесят три барашка в загоне, – прокричал один из прихвостней. – И все они теперь Карегины.
– Эх, эх, – проворчал главный. – Второй раз попадаешься, Польдо. – Он замолчал, потому что в уме считал медленно. И наконец произнес: – За кражу пятидесяти трех тебе полагается сотня ударов кнутом.
– Тогда пошевеливайтесь, а то мне недосуг, – подколол его я.
– Тебе недосуг?
Громила обернулся, чтобы разделить шутку с прихвостнями, которые радостно заржали.
– Мне надо ярочек Кривого домой к хозяину вести, – предупредил их я. – Он меня давно поджидает.
– Слыхали, шестерки?
– Нет тут никаких ярок Кривого. Ни одной.
– Кто же их у меня увел? – Я огляделся по сторонам, немного ломая комедию, как батюшка Жуан из Арреу, когда во время проповеди делает вид, что ищет черта среди прихожан. – Вокруг вор на воре.
Признаюсь, язык мой – враг мой. Больно длинный. И в этот раз он меня подвел, потому что старшой снял с плеча ружье и прицелился мне в грудь, и все жевал травинку, и все лыбился, и все думал бог знает о чем.
Было ясно, что ничего хорошего мне не светит. И все же не удержался и обматерил по первое число и сукино отродье Карегу, и пакостных ублюдков, нанятых им для мокрых дел.
Я хотел только взмолиться, стреляй же, падла, не тяни, я готов в штаны наложить от страха и ни за что на свете не хочу обосраться. Но вместо этих слов у меня вырвалась тирада, как у судьи или поэта, и вместо «стреляй же, падла, не тяни» я завернул про сукино отродье и пакостных ублюдков; скажу по совести, что вышло складно, комар носа не подточит.
Старшой, к таким выкрутасам не привыкший, приставил дуло мне к животу и выстрелил в упор. Кишки попадали на землю из дырки в брюхе. Забрызгали траву и парочку ягнят, стоявших слишком близко, всех окатили, как младенцев, когда их крестят в купели Божьей Матери Снегов, пометив их моей кровью. Зато в штаны я не наложил.
Меня зарыли в яму и засыпали землей, прямо у дороги в Монтгарри[7], молча, не спеша, время от времени матерясь себе под нос и ругаясь на то, что за грязь развели. Потом угнали пятьдесят трех баранов и оставили меня одного. Последний раз я услышал их блеянье, наверное, тогда, когда солнце садилось за Вершину или за Варнавский лес. А потом долгие дни и месяцы становился сырой землей.
Не знаю, сколько времени прошло. Под землей все дни темны и идут быстрее, а может, медленнее, кто их знает. Многие годы спустя я почувствовал, что кто-то роет возле моей ноги или того, что от нее осталось. Хорек или голодная лиса, подумал я тревожно, боюсь я их, тварей кусачих, нет мочи. Но тут послышались проклятия и крики, которых я толком не разобрал. Что там бормочут лягушатники с другого края перевалов Аула или Салау, я еще понять могу, у них-то речь точь-в-точь как у нас в Долине. Но тут, казалось мне, кричали по-кастильски, а на кастильском я ни бельмеса, трещат на нем, как сороки. Пока я так раздумывал, рядом со мной уложили пятерых парней. Одного из них я знал: это был Зидру[8] из семьи Жулианы из Борена[9], старший из всех своих братьев, он был гораздо моложе меня. Только в мозгу у него застряла пуля, у бедняги. Потом я пригляделся к остальным четверым новоприбывшим и увидел, что у них тоже лоб пробит и праздника им особо не хочется.
Время текло медленно, а может, и быстро. Все пятеро незваных гостей вскоре тоже стали сырой землей. И поговорить ни с кем из них как следует по душам мне так и не удалось. Так мы лежали рядом долгие, долгие дни того времени, что протекает у вас под ногами. Пока в одно прекрасное утро, а может быть вечер, кто-то не начал рыть глину у нас над головами. Я снова подумал, хищники, медведь, и опять перепугался, что кто-нибудь меня укусит, хотя кусать уже было и нечего. Однако сожрать меня и этим новым пришельцам не заблагорассудилось. Я было подумал, что снова к нам гости: еще кто-нибудь с пулей в голове. А лопата скребла и скребла, раскапывая могилу. И кайлом едва ковырял кто-то. В конце концов какие-то отъявленные крикуны выволокли меня на жутко слепящий свет. И приятелей моих вытащили, и давай нас фотографировать. Щекотали мне кисточкой лысину, понимаешь ли, чтобы стереть с нее пыль. А через некоторое время к нам подошли три старушечки, поглядели на нас жалостливо, растрогались, и давай реветь. Ни одну из них я не узнал. Оттяпали у меня без разрешения кусочек кости, а потом накрыли нас то ли мешковиной, то ли песком посыпали. Время от времени приходили разные люди, фотографировали нас, о чем-то рассуждали, и, честно вам скажу, я особо не разобрал, что они такое говорили: пролежав столько лет под землей, слабеешь, перестаешь понимать людей и почти их не слышишь. Опять явились старушки, и старички тоже пришли. И снова снимки, снимки, словно в студии Матиаса Рафеля в Сорте[10], только никто к тебе не пристает, что, мол, встань прямо, оденься поприличнее, сейчас вылетит птичка, и все такое. Когда я был совсем мальцом, меня как-то раз собирались сфотографировать, но так до этого и не дошло. А вот сейчас, как лысый стал, так и давай щелкать.
Как-то раз к нам понаехали важные гости, и толпа народу сбежалась их послушать. Сказав торжественные речи, они осторожно засыпали нас той же землей, под которой мы до того времени покоились. Потом их стало не слышно. Однако я углядел, что рядом с нашей могилой поставили плоский камень. По прошествии дней или месяцев, а может быть и лет, мне удалось разобрать, что на нем написано.
МАССОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ У ХИЖИНЫ ПЕРОЗА[11],
где вечно покоятся останки:
ЖОРДИ ГАСЕТА-КАЗАДЕВАЛЯ, ИЗ СЕМЕЙСТВА ГОРРО, ЧТО В ИЗИЛЕ, крестьянина 38 лет
ЛЬИЗЕРА САНСЫ-БАРЛАБЕ, ИЗ СЕМЕЙСТВА МОРОС, ЧТО В АЛОСЕ, крестьянина 57 лет
ИЗИДРЕ ТИРВИО-ПЕНЫ, ИЗ СЕМЕЙСТВА ЖУЛИАНЫ, ЧТО В БОРЕНЕ, 25 лет
ЖАУМЕ ЛАМАРЖЕ-РИУ, ИЗ СЕМЕЙСТВА МАЖИ, ЧТО В ИЗАВАРРЕ, кузнеца-оружейника, 45 лет
НАРСИСА БАРЛАБЕ-ЖИРАЛТА, ИЗ СЕМЕЙСТВА КАРДЕТА, ЧТО В ИЗИЛЕ, крестьянина 33 лет
НЕИЗВЕСТНОГО КРЕСТЬЯНИНА,
героев и жертв гражданской войны, расстрелянных войсками генерала Франко
10 мая 1939 года
Да не померкнет в сердцах новых поколений память о неподкупных и отважных мучениках
Борда-де-Пероза, 10 мая 2002 года
А я-то всю жизнь изворачивался как мог, чтобы увильнуть от крестьянской работы. И знаете что? Рад бы я был, если бы на том месте, где меня окрестили неизвестным крестьянином, написали: «Польдо Харчок из Арреу, 43 лет». А рядом: «лучший в долине похититель баранов».
Buttubatta[12]
Просторная комната с высоким потолком. Стены заставлены книгами. Хозяин появляется на пороге и обеспокоенно оглядывается по сторонам, вскинув трубку, будто в кого-то из нее целится. Похоже, он забыл, зачем сюда пришел. Видимо, роясь в памяти, рассматривает планшет, телефон, записную книжку. Озирается по сторонам и заглядывается на пожелтевший корешок «Руководства по инквизиции»[13], изданного в Антверпене. Он купил его лет десять-двенадцать назад, когда еще жил беспечно, когда никто еще не впустил в его душу адские сомнения, беспрестанно повторяя «теперь-то уж точно, да, теперь-то уж точно». Хозяин не знает, что осматривает место преступления, пока оно еще остается всего лишь замечательной тихой читальней, в которой полным-полно библиографических редкостей, в числе которых две инкунабулы[14] и множество иных чудес книжного дела. Есть здесь и совершенно плебейские издания, некоторые даже – прошу прощения за непристойность – в бумажном переплете. А также я: самый старинный фолиант во всей библиотеке, хотя об этом никто и не догадывается. Теперь он сел подумать. Что ему было здесь нужно? Телефон. Да, ему хотелось удостовериться, что трубка повешена, ведь бывает так, что чем важнее звонок… Хозяин проверяет, что трубка лежит правильно. Озирается, не обращая внимания на нас, долголетних и постоянных спутников его жизни. Итак, ничего подобного: трубку повесили правильно. Орудие неминуемого убийства находится на столе. Оно скрывается под видом безобидной стеклянной пепельницы, о край которой хозяин выбивает чубук потухшей трубки. Перемешивает в чаше табак спичкой и снова постукивает об орудие убийства. Потом зажигает спичку. Облако синеватого ароматного дыма. Что создавало бы уют, но обстоятельства не те.