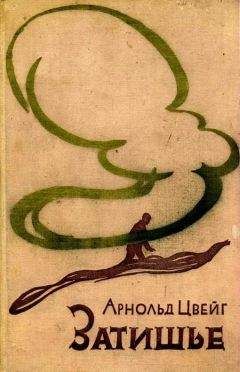Бертин выключил свет и затворил дверь. Они шумно спустились по лестнице.
Сделав несколько шагов по заснеженной дорожке, Софи остановилась.
— Смотрю вокруг и не знаю: что это, действительность или продолжение твоей драмы. Как сказал часовой? «Пол-России прилипло к моим подошвам». Я чувствую то же самое.
— Благодарная слушательница, — рассмеялся Бертин. — В пьесе еще март, а теперь у нас декабрь. Революция, о которой говорится в пьесе, называлась Февральской. А мы живем уже после Октябрьской. Помоги нам бог в Брест-Литовске!
Они вступили в круг света, отбрасываемого ярким фонарем, и ускорили шаг, боясь, как бы Софи не влетело от старшей сестры. Оба ведь были солдаты.
— Поистине трудно установить, — сказал Бертин, прощаясь со своей спутницей у белых каменных ворот, — где действительность и где творческий вымысел, трудно не отождествлять себя с персонажами, которых я вывожу в пьесе. Найдется ли для нее театр? Это зависит от господина Ленина и от нашей цензуры.
— До завтра, — и Софи скрылась в черном подъезде.
…И от того, что принесет с собой наступающий тысяча девятьсот восемнадцатый год, — мысленно закончил Бертин последнюю фразу.
На фронтоне госпиталя начали бить часы.
Поздно ночью в туман и метелицу новоиспеченный капитан Винфрид прибыл в Мервинск. Он дал верному Коршу горсть сигарет в благодарность за тяжелую езду по самым коротким лесным дорогам, на которых ветер нагромоздил снежные сугробы, затем велел принести себе в спальню перловый суп, селедку с кислым огурцом и два бутерброда с салом. Не откладывая, поздоровался по телефону с сестрой Берб, у которой случайно было ночное дежурство. Значит, она сможет прийти к нему завтра утром. Раздеваясь, он просмотрел в «Газете X армии» хорошо известную ему статью «Искусство побеждать», которую он еще раз внимательно прочтет утром.
Винфрид лег в постель и выключил свет. Чертовски талантлив этот Бертин, хотя портрет майора он нарисовал в своем рассказе очень поверхностно.
И не удивительно, что нестроевик Бертин не понял, да и не мог понять военного такого типа, как этот Янш. Янш, конечно, мерзавец, но дело, которое он защищал, — хорошее дело, дело Германии, поскольку речь идет о ее мировых интересах. Да, перед русскими в Брест-Литовске предстанет некий гигантский Янш. И он выторгует возможно больше благ за пролитую кровь немецкой молодежи, это его право и его долг. Генерал Клаус понимает этот долг и защищает это право более благородными, внутренне оправданными методами, чем какой-то случайный Янш. Надо рискнуть, надо бросить все силы на Запад, раз нам еще придется драться с ним, а если понадобится для этого хитрый трюк, так с божьего благословения пойдем и на трюки: скажем, что еще до начала переговоров все войсковые части уже были двинуты в дело. Конечно, в действительности мы двинем их не сейчас, дай бог, чтобы к весне, ибо кто знает, какое положение сложится к востоку от Вислы, как поведут себя наши союзники, а также Польша и Украина. Все это еще покрыто мраком неизвестности. Ему вдруг почудилось, что над его головой носятся снежные облака. Он улыбнулся и с удовольствием вытянулся.
Винфрид приправил свой ужин двумя стаканами крепкого бургундского вина марки «Помар» из запасов Лихова и поэтому не сомневался, что быстро заснет, еще слыша свист декабрьского ветра, треплющего верхушки елей, и перебирая в уме все, что он узнал за минувший день в ставке генерала Клауса. Главное — мир будет заключен. Русские не хотят и не могут сражаться. Новый военный комиссар Крыленко уже обратился из Могилева с посланием к русской армии и к немцам. Он сумел найти надлежащую форму, хотя, говорят, еще недавно был прапорщиком. И, значит, новоиспеченный капитан, горевший нетерпением рассказать обо всем своим друзьям, в особенности пессимисту Бертину, может заснуть сном праведника. Генерал Клаус утверждает, — Винфрид усмехнулся, — что уже научился кое-чему от советских людей: он понял, как важна пропаганда.
— Мы тут бранимся, — сказал Клаус, — делаем много, но плохо. Надо действовать лучше: всех, кто умеет грамотно писать по-немецки, сосредоточить в Ковно. Для пяти-шести умных голов еще найдутся штатные единицы в отделе печати и в пятом отделе.
Значит, надо переправить Бертина из Мервинска в Ковно — в отдел печати округа «Обер-Ост», где ему будет неплохо житься, хотя неких сестер милосердия, к сожалению, придется перевести в виленский гарнизонный лазарет № 2, который, кажется, помещается в пригороде Антоколь. Винфрид как-то побывал там, правда совсем по другим делам.
Впрочем, все это далеко не так просто, чтобы спокойно спать, ни о чем не помышляя. Опасностей не оберешься. Засыпая, Винфрид увидел перед собой ряды пехотинцев в защитного цвета мундирах, они маршировали на плацу, нарядные, как оловянные солдатики, в новой, с иголочки амуниции, которую теперь, во время войны, вряд ли где увидишь.
Наутро начались телефонные звонки, один за другим приходили представители различных отделов штаба и мервинской комендатуры, получали инструкции, поздравляли господина капитана, расспрашивали его. Явился и ротмистр фон Бретшнейдер, очень озабоченный тем, что у него могут забрать отряды егерей, пехотинцев и обозный парк. Винфрид успокоил его заверениями, коварства которых Бретшнейдер не понял.
Радости, скорби, что ждут нас,
В лоне времен сокрыты, —
продекламировал Винфрид, перефразируя слова одного классика, то бишь Шиллера, которого он считал земляком Берб и который действительно был им. Винфрид хотел объяснить ротмистру, что никто еще ничего не знает, пока русские парламентеры не вернутся в Брест-Литовск. Они обещали приехать и приедут. А примкнут ли к ним державы Антанты — на этот счет пусть господин ротмистр не ломает себе голову: Англия и Франция не желают иметь ничего общего с этим призывом к миру и знай себе твердят, что, мол, по договору 1914 года запрещается заключать сепаратный мир. Даже американцы, по обыкновению разговаривающие с таким апломбом, с каким могут говорить только янки и еще не сделавшие в этой войне ни одного выстрела, «оставляют за собой право предпринять тот или иной шаг».
— Хозяева России! — с возмущением и презрением воскликнул комендант Мервинска. — Какие-то проходимцы, заговорщики без роду без племени, как метко охарактеризовал их десять лет тому назад рейхсканцлер Бюллов. Трех недель не позволит им русский народ продержаться. Мы только должны дать генералам время опомниться и повернуть на Петроград.
Адъютант, подняв брови, дружески, почти с восхищением кивнул молодому заводчику в кавалерийском мундире.
— Давайте лучше предоставим это нашему генералу Клаусу и народным комиссарам, заседающим в Смольном. Они ведь знают, чего хотят и что делают. Во всяком случае, настаивая на скорейшем заключении перемирия, они обладают властью осуществить его. Ведь за ними — народ, как за всяким правительством, обещающим хлеб и мир рабочим и крестьянам.
— Чистая демагогия! — С этими словами ротмистр поднялся. — Мы обещаем нашему народу победу, и величие, на немцев это всегда производило впечатление.
«Ты еще подивишься, мой милый, — думал Винфрид, провожая Бретшнейдера до дверей, — когда у тебя заберут людей и перебросят неведомо куда — то ли на Украину, то ли в Аррас, — да и сам ты еще можешь пасть смертью храбрых, может быть, на Пьяве, а может быть, на Ла-Манше».
Винфрид поднял телефонную трубку и приказал Понту пригласить друзей на чашку кофе к четырем часам — на этот раз не для того, чтобы слушать рассказы Бертина о его переживаниях в таком-то году, а чтобы самому поведать о днях, проведенных с необыкновенным человеком, с немецким генералом Клаусом. Но не успел он еще открыть рта, как раздался спокойный голос Понта, попросившего принять на несколько минут его и унтер-офицера Гройлиха. В четверг в подвале штабной виллы случилось чрезвычайное происшествие.
— Поднимитесь ко мне, — сказал Винфрид. «Что там могло случиться? — подумал он. — Может быть, солдаты чужой части забрались в водочный склад, а строгие блюстители нравственности опасаются, что дело не обошлось без участия наших вестовых?»
Когда унтер-офицеры рассказали о самоубийстве нестроевого солдата Игнаца Наумана в коридоре подвала, лицо Винфрида окаменело.
— Я не ослышался? — спросил он строго официально. — Самоубийство в квартире его превосходительства?
— К сожалению, да, — ответил Гройлих.
— Безобразие! — сказал молодой офицер сквозь зубы, и вдруг в нем поднялась вся ярость, накопившаяся в душе за последние недели, когда он слушал рассказы Бертина. — Не могли присмотреть за парнем! Повеситься на наших телефонных проводах! Мало здесь, что ли, отхожих мест!