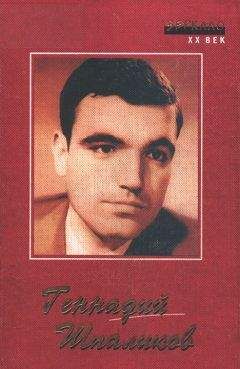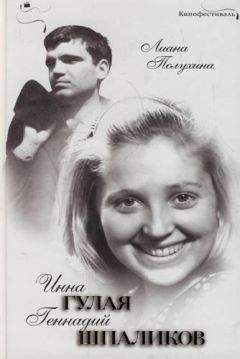Доска объявлений.
К ней в беспорядке приколоты кусочки бумага.
Кривые, дрожащие буквы…
Буквы складываются в слова.
Верните будильник людям из общежития!
Потерял штаны в библиотеке. Не смешно.
Штаны — спортивные.
У кого есть совесть — передайте на 1 актерский.
В самом низу — листок, вырванный из тетради. Он обрамлен неровной чернильной рамкой, вроде траурной. Делали ее от руки и второпях:
Деканат сценарного факультета с грустью сообщает, что на днях добровольно ушел из жизни
ШПАЛИКОВ ГЕННАДИЙ
Его тело лежит в Большом просмотровом зале. Вход строго по студенческим билетам. Доступ в 6 час., вынос тела — в 7.
После выноса будет просмотр нового художественного фильма!!!
Возле доски объявлений — несколько человек. Они что-то жуют. Голоса — совсем спокойные.
— Как это его угораздило?
— Говорят, повесился.
— Повесился?
— Ага, в уборной.
— Не кинематографично. Лучше бы с моста или под поезд. Представляешь, какие ракурсы?!.
Затемнение. Лестница перед просмотровым залом.
Толпятся люди с панками и портфелями.
Приглушенный говор.
Изредка поглядывают на часы — ждут.
К двери протискивается женщина. Она холодно смотрит перед собой и повторяет:
— Зря вы тут стоите, никого не пущу…
Это — Колодяжная.
Она привычно думает, что всё собрались ради ее просмотра. Ждет, что сейчас польются умоляющие слова, на которые она кратко и сильно ответит: «Нет!»
Но все молчат.
— Почему закрыт зал? Не срывайте просмотр по зарубежному кино!
— Понимаете, человек умер…
— Это — его дело, а у меня — расписание.
— Жаль беднягу — он не знал вашего расписания.
— Это меня мало интересует. Принесите справку с подписью Грошева и, пожалуйста, — устраивайте здесь хоть крематорий. Я буду только рада.
Она решительно открывает дверь и замирает на пороге.
— Да… Печально, ну что поделаешь — не будем терять времени. Пошли в малый зал.
Кучкой стоят сценаристы первого курса. Их печальные и мужественные лица как будто говорят: «Вот какие мы. Что нам смерть — раз, два и повесился. На то мы и писатели».
Впечатление такое, что каждый пришел на собственные похороны. Как всегда, первым высказался Вл. Злотверов с присущей ему твердостью и категоричностью.
ЗЛОТВЕРОВ: Не понимаю, что он этим хотел сказать. Но вообще — это в его духе. Цветочки, ландыши… Сен-ти-мент. Достоевщина, в общем. Я бы лично в принципе так не поступил.
КРИВЦОВ: Жаль.
ШУНЬКО: Мне тоже.
КРИВЦОВ: Я не хочу, понимаете, притворяться. Мы об этом до четырех утра ругались в общежитии. Дежурная, понимаете, дважды проходила. Я знаю одно: сам я пока не вешался и ничего определенного сказать не могу.
БЕКАРЕВИЧ: Кому как, а мне это нравится. Не будем вульгарны, как говорил Шиллер. Я бы сам давно сделал что-нибудь похожее — времени не хватает.
ШУНЬКО: Что так?
БЕКАРЕВИЧ: Завален этюдами.
Юра Авдеенко согласился с мнением старосты:
— Как кому, а мне это близко. Я еще в армии про такое думал. Что касается формы, можно, конечно, что-нибудь получше…
КРИВЦОВ: Например?
АВДЕЕНКО: Ну, не знаю — застрелиться, что ли?..
ШУНЬКО: Я понял тебя. На вечере. Между двумя танцами. На глазах потрясенной толпы. Правильно?
Утвердительный кивок головы.
ШУНЬКО: Не выйдет.
АВДЕЕНКО: Почему?
ШУНЬКО: Уже занято. Это — место Кафарова.
ГУБАЙДУЛЛИН: оставьте ваши плоские шутки. Я серьезно спрашиваю. Повесился. Ну что здесь хорошего? Красиво, да?
ЗЛОТВЕРОВ: Декларация.
ГУБАЙДУЛЛИН: Вы мне детально объясните, а то какой-то культ личности получается. Теперь же все вешаться будут.
— Да в самом деле, вообще то говоря, где-то в глубине души, в подтексте, я всегда был против самоубийств, — согласился принципиальный Юра Авдеенко.
ШУНЬКО: Что вы спорите? Хорошо, плохо, как мухи в банке. Я так считаю: самоубийство — это просто плагиат. Ничего оригинального. Меня эта смерть не обогатила.
Подходит Кафаров. Он закутан в полосатый шарф.
ШУНЬКО: Ничего нового я из нее не вынес.
КАФАРОВ (в тон): Она не очистила тебя перед человечеством…
ШУНЬКО: А-а-а, пришел? Что скажешь?
КАФАРОВ: Все по-прежнему. Покойный был трепач. Лирик-спекулянт…
ШУНЬКО (заканчивая): И вообще, я, Кафаров, гораздо лучше…
КАФАРОВ: Не ерунди. Я ему стихи посвятил.
ШУНЬКО: Со змеей?
КАФАРОВ: Можешь упражняться в остроумии на Данисо — он все равно не понимает. Слушайте.
Что-то загрустилось мне на юге,
Там, где пляшут тени, хорошо.
Ты ушел от нас, подобно вьюге,
И, конечно, вовремя ушел.
В петлю лезь или об стенку бейся,
Но тобой написана мура,
В общем, на бессмертье не надейся,
Малая Медведица пера.
ПАВЛОВ: Брось трепаться. Хороший был парень. Общественник. Перед смертью за 8 месяцев в комсомол уплатил. Очистился — ив петлю. Хороший парень.
Все молчат. Довод убедительный. В углу, как всегда, молча стоит Толя Корешков. Он уже в плаще.
ПАВЛОВ (вздохнув, деловито): Нужно будет остаться сегодня. Значит, водки купить, закуски. В общем, скинемся но десятке. Как смотрите?
Общий гул голосов:
— Поощрительно…
ПАВЛОВ: Тогда я — в магазин.
— А как же с прощанием?
ПАВЛОВ: Я с ним по комсомольской линии простился.
В стороне отдельной кучкой стоят близкие нам киноведы.
КРЫЛОВА: Он правильно сделал — у него по английскому двойка была.
АРААЯ: А у нас в Латвии все так: или женятся, или самоубийством кончаются.
Молча стоит Галя Копалина.
Она тихо плачет.
Слеза, крупная, как капля ртути, выкатилась из ее глаза и побежала по щеке.
Галя вытерла мокрые щеки и сказала спокойным голосом:
— Б-р-р-р. Я мертвецов боюсь, просто ужас. И вообще — у меня билет в Дом кино на итальянцев.
Она сорвалась с места, и только пестрый платок замелькал в пролете лестницы.
Все усиливается шум голосов.
Все чаще люди смотрят на часы.
Все устали, всем надоело.
6 часов.
Зал закрыт.
К двери протискивается женщина и кричит совершенно цыплячьим голоском:
— Сначала члены месткома!
Дверь с треском распахивается. Все лезут в зал, как на хороший просмотр.
Темно.
Все ушли.
И вдруг — вспыхивает спичка, осветив тонкое человеческое лицо. Прядь волос на высоком лбу. Это — Вова Кривцов.
Он зажигает спичку и долго-долго держит ее в пальцах. Пламя лижет кожу — но ему наплевать.
Он на ощупь проверяет, что такое быть мертвым.
Гаснут и снова загораются спички, разбрасывая по стенам зеленые искры…
И наконец темнота поглощает все…
21 октября 1956 года * * *Сегодня вечером мы пришли к Шпаликову. Тра-ля-ля… Он был трезвый и серьезный, а мы — пьяные и глупые. Не сердись на нас, пожалуйста, Гена… Мы очень любим тебя и твой сценарий, и режиссера Хуциева, и ею творчество, и «новую волну», и все такое интересное и необычайно талантливое, как все молодые кинематографисты, которые есть теперь, хотя они и очень любят нить водку, да и не только водку, но все равно они хорошие, а самый хороший среди них ты, и самый умный, и самый юный, и новый, и талантливый, и полосатый, в полосатой рубашечке, и такой красивый, и любимый всеми девушками города Москвы. Да и не только Москвы — других городов тоже. Будь здоров, Гена!
МИЛЫЙ, ТЫ С КАКОГО ГОДА И С КАКОГО ПАРОХОДА?
РассказЭто есть такая песня: «Милый, ты с какого года и с какого парохода?»; не вся песня — припев, кажется, а точно я не знаю. Песня довольно длинная и бестолковая, но все равно очень хорошая, если ее спеть с настроением или же услышать в определенном настроении. Вот я услышал однажды про этого милого с парохода и запомнил две строки — запали в голову и держатся вот уже сколько лет, а песню я слышал один раз, ночью, когда шел домой — ее пели хором проходящие в обнимку — лиц не разобрать, а пели громко: «Милый, ты с какого года и с какого парохода?». Зачем я все это пишу? Я не знаю, хотя мне хотелось об этом как-то написать. Во всякой истории самое трудное — да, начало. Множество начал стоят передо мною, и я не решаюсь выбрать хотя бы одно из них по той причине, что выбор определяет ход повествования, а мне бы этого не хотелось. Можно начать так: «Майские тяжелые жуки летают весенними вечерами». Они действительно летают — все верно, и тяжесть их вполне ощутима; какие-то они тяжеловатые на взлете и тяжело падают с веток на землю, если дерево потрясти. Весна, весна на улице, весенние деньки. Бесконечная весна. Только май, а конца не видно. С какого-то периода, возраста, может быть, весны начинают лететь мимо со страшной силой то зеленью, случайно мелькнувшей в окне, то бог знает чем, а чаще всего — летят все эти дни листком календаря, если календарь имеется, в котором лишь число определяет, что мы уже в апреле. И ваг однажды в такой весенний день, ближе к вечеру, напала на меня тоска. Я открыл окно и посмотрел вниз. Виды привычные. Скверик, магазин цветов. На скверике ребята запускали модель самолета на длинной веревке, а скорее всего — на рыболовной леске. Красный самолетик летал по кругу, тарахтел, мельтешил, поворачивался крылом, готовый свалиться, взмывал совсем неожиданно для испытателя, который — слава богу! — не сидел в нем, а лишь руководил издали, стоя в центре круга, образуемого вращающейся моделью. Красный самолетик, закат, треск над дворами — весна, первая пыль — все уже подсохло, а дождя еще не было, не грохотал еще гром в небе голубом. А рядом, за забором, бродили в длинных синих байковых халатах — и в ярко-синих, новых, и в белесых, выцветших — больные и выздоравливающие военного госпиталя. Кто там из них действительно выздоравливал, а кто нет — сверху не разобрать, но я когда-то сам лежал в госпитале, и то обстоятельство, что люди уже ходят, воспринимал как победу и радость. Но потом, позже, я узнал, что некоторые из тех, кто уже ходили по аллеям и скверикам и даже, случалось, выпивали с посетителями в приемные дни, так вот и они умирали. Но когда я смотрел на них из окна, лежа на вытяжении с переломанными ногами, они вселяли в меня надежду, что вот я тоже встану когда-нибудь, хотя бы и на костылях. А они еще ходили пить пиво — полное счастье! — мы в палатах изнывали от жары. Гуляющие — да вселяют надежду и в родственников, и в знакомых, и в случайных людей, которые ожидали от госпиталя однообразия белых палат и пустых коридоров, по которым изредка провозят на тележке усопшею или же усопшего не вполне, а везут его в ту самую палату, где, умирающий, никого не смутит, не повлияет угнетающе на нервную систему оставшихся товарищей по палате, которые могут и растеряться при виде покойника и как-то обратить все эти мысли на самих себя, повернуть случай в сторону личных обстоятельств. Вот этого врачи очень боялись и оберегали нас всячески.