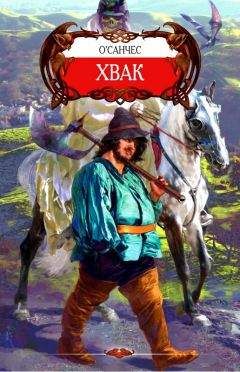— Володя, Володя, дорогой, я бы хотел знать подробности. Мне это крайне важно!
— Да ничего особенного, — махнул ручкой Володя. — Стою я раз в Пуэрто, очень скучаю. Кока-колой надулся, как пузырь, а удовлетворения нет. Смотрю, симпатичный гражданин идет, познакомились — Мигель Маринадо. Потом еще один работяга появляется, Хосе-Луис…
— Велосипедчик? — задохнулся Дрожжинин,
— Он, Завязали дружбу на троих, потом повторили. Пошли к Мигелю в гости, и сразу девчонок сбежалась куча поглазеть на меня, как будто я павлин кавказский из Мурманского зоопарка, у которого в прошлом году Гришка Офштейн перо вырвал,
— Кто же там был из девушек? — трепетал Вадим Афанасьевич.
— Сонька Маринадова была, дочка Мигеля, но я ее пальцем не тронул, это, Вадик, честно, затем, значит, Маришка Рохо и Сильвия, фамилии не помню, ну а потом Хосе-Луис на велосипеде за своей невестой съездил, за Роситой. Вернулся с преогромным фингалом на ряшке. Ну, Вадик, ты пойми, девчонки коленками крутят, юбки короткие, я же не железный, верно? Влюбился начисто в Сильвию, а она в меня. Если не веришь, могу карточку показать, я ее от Симки у пахана прячу.
— Вы переписывались? — спросил Дрожжинин.
— Да и сейчас переписываемся, только Симка ее письма рвет, ревнует, А ревность унижает человека, дорогая Симочка, это еще Вильям Шекспир железно уточнил, а человек, Серафима Игнатьевна, он хозяин своего «я». И я вас уверяю, дорогой работник прилавка, что у нас с Сильвией почти что и не было ничего платонического, а если и бывало, то только когда теряли контроль над собой. Я, может, больше любил, Симочка, по авенидам ихним гулять с этой девочкой и с собачонкой Карабанчелем, Зверье такого типа я люблю как братьев наших меньших, а также, Серафима, любите птиц-источник знаний!
С этими словами Володя Телескопов совсем уже отключился, бухнулся на завалинку и захрапел.
Тренированный по джентльменской методе Вадим Афанасьевич без особого труда перенес легкое тело своего друга (да, Друга, теперь уже окончательного друга) в дом приезжих и долго сидел на койке у него в ногах, шевелил губами, думал о коварной Сильвии Честертон, ничего не сообщившей ему о своем романе с Телескоповым, а сообщавшей только лишь о всяких девических пустяках. Думал он также вообще о странном прелестном характере халигалийских ветрениц, о периодических землетрясениях, раскачивающих сонные халигалийские города, как бы в танце фанданго.
Второй сон Володи Телескопова
У Серафимы Игнатьевны сегодня день рождения, а у вас фонарь под глазом. Начал рыться в карманах, вытащил талоны на бензин, справочку-выручалочку о психической неполноценности, гвоздь, замок, елового мыла кусок, красивую птицу-источник знаний, восемь копеек денег.
Начал трясти костюм, полупальто — вытряслось тарифной сетки метра три, в ней премиальная рыба — доска-чего-тебе-надобно-старче, возвратной посуды бутылками на шестьдесят копеек, банками на двадцать (живем!), сборник песен «Едем мы, друзья, в дальние края», наряд на бочкотару, расческа, пепельница, Наконец, обнаружилось искомое — вытащил из-под подкладки завалящую маленькую ложь.
— А это у меня еще с Даугавпилса. Об бухту Троса зацепился и на ящик глазом упал.
Верхом на белых коровах проехали приглашенные — все шишки райпотребкооперации.
А Симка стоит в красном бархатном платье, смеется, как доменная печь имени Кузбасса.
А его, конечно, не пускают. Выбросил за ненадобностью свою паршивенькую ложь.
— У других и ложь-то как ложь, а у тебя и ложь-то как вошь.
Но ложь, отнюдь не как вошь, а спорее лягушкой весело шлепала к луже, хватая на скаку комариков.
— Ворюги, позорники, сейчас я вас всех понесу! Как раз меня и вынесли, а мимо дружина шла.
— Доставьте молодчика обратно в универмаг ДЛТ или в огороде под капусту бросьте.
Одного меня в универмаг повезла боевая дружина, а другого меня под капусту бросила.
Посмотрел из-за кочана — идет, идет по росе Хороший Человек, вроде бы кабальеро, вроде бы Вадик Дрожжинин.
— Але, Хороший Человек, пойдем Серафиму спасать, баланс подбивать, ой, честно, боюсь проворуется.
Второй сон Вадима Афанасьевича
Гаснут дальней Альпухары золотистые края, а я ползу по черепичным крышам Халигални. Вон впереди дом, похожий на утес, ущербленный и узкий. Он весь залит лунным светом, а наверху балкон, ниша в густой тени.
Выгнув спину, лунным леопардом иду по коньку крыши. Перед решающим броском ощупываю рубашку, брюки-все ли на месте? Ура, все на месте! Перепрыгиваю через улицу, взлетаю вверх по брандмауэру, и вот я на балконе, в нише, а потом в будуаре, а в будуаре-альков, а в алькове кровать XVI века, а на кровати раскинула юное тело Сильвия Честертон, потомок испанских конкистадоров и каперов Ее Величества. Прыгнул на кровать, завязалась борьба, сверкнул выхваченный из-под подушки кинжал, ищу губы Сильвии.
СИЛЬВИЯ. — Вадим!
ОН. — Это я, любимая!
Кинжал летит на ковер. Дышала ночь восторгом сладострастья…
— Любимый, куда ты?
— Теперь я к Марии Рохо. Ночь-то одна…
У него ноги были подбиты железом, а пиджак из листовой стали. Тедди-бойс, конечно, разбежались, потрясая длинными патлами, как козы. Мария Рохо вздрогнула, как лань, когда он вошел.
— Вадим!
Хороши весной в саду цветочки… Это еще что, это откуда?
Иду дальше по лунным площадям, по голубым торцам, а где-то пытается наложить на себя руки посрамленный соперник Диего Моментальный. Скрипят рамы, повсюду открываются окна, повсюду онипрекрасные женщины Халигалии.
— Вадим!
— Спокойно, красавицы…
Вихрем в окно и из дымовой трубы, опять в окно, опять из трубы… Габриэла Санчес, Росита Кублицки, тетя Густа, Конкордия Моро, Стефания Сандрелли… Клятвы, мечты, шепот, робкое дыхание… Безумная мысль; а разве Хунта не женщина? Проснулся опять в Кункофуэго в полной тоске… Как связать свою жизнь с любимыми? Ведь не развратник же, не ветреник.
В дымных лучах солнца по росе подходил Хороший Человек.
— Я тебе, Вадик, устроил свидание с подшефной бочкотарой.
Старик Моченкин дед Иван в этот вечер в Мышкине очень сильно гордился перед кумой своей Настасьей: во-первых, съел яичницу из десяти яиц; во-вторых, выпил браги чуть не четверть; в-третьих, конечно, включил радиоточку, прослушал, важно кивая, передачу про огнеупорную глину, а также концерт «Мадемуазель Нитуш».
Кума Настасья все это время стояла у печи, руки под фартуком, благоговейно смотрела на старика Моченкина, лишь изредка с поклонами, с извинениями удалялась, когда молодежь под окнами гремела двугривенными. Уважение к старику Моченкину она питала традиционное, давнее, начавшееся еще в старые годы с баловства. Честно говоря, старик Моченкин был даже рад, что попал в город Мышкин, да вот жаль только, что неожиданно. Кабы раньше он знал, так теперь на столе бы уж ждал корифей всех времен и народов — пирог со щукой. Всегда в былые годы запекала кума Настасья к его приезду цельную щуку в тесто. Очень великолепный получался пирог — сверху корочка румяная, а внутри пропеченная гада, империалистический хищник.
— Плесни-ка мне, кума, еще браги, — приказал старик Моченкин.
— Извольте, Иван Александрович.
— Вот здесь, кума, — старик Моченкин хлопнул ладонью по своему портфелю ложного крокодила, — вот здесь все они у мене — и немые и говорящие.
— Сыночки ваши, Иван Александрович?
— Не только… — Старик Моченкин строго погрозил куме пальцем. — Отнюдь не только сыночки. Усе! — вдруг заорал он, встал и, качаясь, направился к кровати. — Усе! Опче! Ума! — еще раз погрозил кому-то, в кого-то потыкал длинным пальцем и залег.
Второй сон старика Моченкина
И вот увидел он — вся большая наша страна решила построить ему пальто.
Сказано-сделано: вырыли котлован, работа закипела. Пальтомоченкинстрой!
Заложено было пальтецо, как линейный крейсер, синего драпа, бортовка конским волосом, груди проектируются агромаднейшие, как у Фефелова Андрона Лукича, нате вам!
Надо бы жирности накачать под такое пальто. Беру булютень (у кого?), беру булютень у товарища Телескопова, нашего водителя, ввожу в себе крем-бруле, стюдень, лапшу утячию, яичню болтанку — ноль-ноль процента результата, привес отсутствует, хоть вой! Шельмуют в семье с жирами, жируют в шельме с семьями, а кому писать, кому челом бить? Стучи, стучи — не достучишься. Пальто высилось над полями и рощами, как элеватор, воротник мелкими кольцами в облаках, и вот я иду на примерку.
А посередь поля — баран неохолощенный, огромный, товарный, товарный… А вы идите, господин-товарищ, как бы стороной, как бы между прочим.
Так и иду, баран только землю роет, спасибо, люди добрые. Вот пальто, а в пальте дверь, а в дверях Фефелов Андрон Лукич.