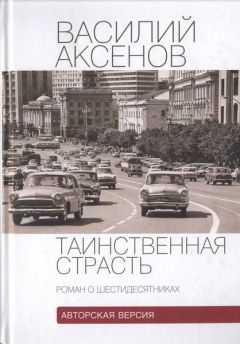Роберт простодушно улыбнулся. «Вы немного, Максим Денисович, ошиблись с фамилией его матери. Она не Гринберг, а Гринбург. А доллары у нас в Советском Союзе не вращаются, не так ли?» Курченко был поражен. Увальноватый Роба уверенно выигрывал у сетки и посылал сильные драйвы к дальней линии. На лице его партнера — не называть же противником такую государственную фигуру — пробегали еле заметные, но заметные тучки.
«Итак?» — проговорил МД, точнее ДМ; ну, в общем, читатель знает.
«Хороший парень, — улыбнулся Роберт. Улыбка, конечно, относилась не к участнику, а к предмету разговора. — Мы все к нему очень хорошо относимся».
«Кто это „мы“?» — вдруг с некоторой зловещинкой спросил МДДМ.
«Ну, наша компания».
«Ваша старая компания?»
«Почему это старая? Пока еще не износилась».
«Роб! — воззвал Юрченко. — Ты что, не понимаешь, о чем идет речь?»
«Признаться, не понимаю», — ответил Эр без всякой дерзости, но явно с некоторой насмешкой.
«И что же, Роберт Петрович, у вас нет никаких личных оснований не любить Ваксона, злиться на него?» Ну ясно, понял Роберт, намекает на Ралиску. Наверно, и под наши кровати своих уловителей запускают.
«Нет».
Высокий чин улыбнулся с вальяжностью, что подошла бы и славофильскому[88] кружку Хомякова.
«У нас в русском языке существует какая-то двусмысленность со словом „нет“. То ли это „нет — нет“, то ли „нет — да“».
«Нет — нет».
Высокий чин развел руками:
«Да ведь и в этом „нет — нет“ сидит некоторая лукавость, батенька!»
Все трое расхохотались, словно джентльмены в каком-нибудь Аглицком клубе. Извлечены были даже идеальные носовые платки. Чихнув в платок, старший генерал глянул на Эра зорким зраком.
«А вы роман „Вкус огня“ еще не читали, Роберт Петрович?»
«Это что же за роман такой? — удивился Роб Эр. (До сих пор мы не можем сказать с определенностью — хитрил Роберт или действительно еще не слышал о „нетленке“ Ваксона.) — Отечественный или иностранный? С какого языка переведен? Название мне нравится. Taste of the Fire; звучит!»
Генерал, как пишут в социалистическом реализме, «поигрывал лукавым взглядом».
«А я-то думал, что вся эта ваша компания уже прочла черновой вариант или побывала на чтениях. До меня роман еще не дошел, но я уже кое-что слышал. Говорят, что яркая антисоветская вещь вашего хорошего парня, Ваксона. Источник также утверждает, что там через весь текст проходит некий женский образ, напоминающий красавицу из высших кругов нашего общества; вот ведь незадача!» Роберт встал. Ну, хватит уже хмычков и взглядиков. Он отошел к окну, за которым продолжалось кружение невинных снежинок. Выдохнул струйку дыма. Вернулся к столу, но не сел.
«Давайте, товарищи, поговорим начистоту. Я знаю, что вы продвигали меня в секретариат и в партком, и я за это вам премного благодарен. Однако это, как мне кажется, не налагает на меня обязательства топить своих друзей. Ваксон — непростой человек. Его родители прошли через ад ГУЛАГа. Он выработал свою собственную концепцию современного романа, в которой нет места ни эзоповскому языку, ни умолчаниям. Политические инвективы, может быть, там и присутствуют, однако они играют второстепенную, если не третьестепенную роль. Роман с его точки зрения не может являться политической акцией. Все, что относится к акции, это всего лишь строительный материал романа. По отношению к роману есть только две политики — или он есть, или его нет…» Тут его прервал Юрченко. Губы его тряслись, а грудь колыхалась.
«Послушай, Роб, что за ересь ты несешь? Ведь мы тебя…» Его тормознула ладонь высшего чина. Сам чин, производя торможение сателлита, не отрываясь смотрел на человека, теряющего притяжение светил. «Как я понимаю, вы говорите о „нетленке“, Роберт Болеславович?»
Попал в цель. Роберт дернулся. Значит, он знает, что я никакой не Петрович, что я не Эр? Ну что ж, ничего не остается, как только бить лоб в лоб. «Удивлен вашими познаниями, Максим Денисович…»[89]
Не «Денис Максимович»[90]. Тот тоже чуть-чуть моргнул надменной мордой. «С такими познаниями вы запросто могли бы стать членом нашей компании». Высший чин весело рассмеялся. «Боюсь, что я действительно стану членом вашей компании, но разговаривать придется с каждым поодиночке». Роберт губищи свои распустил и выпятил угловатость, напоминая в этот момент мужскую фигуру с картины Пикассо «Девочка на шаре». Протянул высшему чину руку на выбор — пожимать или не пожимать. «Прошу прощения, я должен быть сейчас в районной библиотеке; там чтения. Ведь я прежде всего поэт, а потом уже Секретарь».
Ручища волейбольного забойщика была принята двумя пухловатыми лапками секретной службы. Что касается Юры Юрченко, то он остался без дружеского рукопожатия. Ну, бывает. Рассеянность.
Ночью в постели он рассказал об этой беседе Анке. Постарался ничего не упустить. Какая все-таки сволочь этот Юрка, вздохнула она. Надо отказать ему от дома. Ты же знаешь, он ненавидит Ваксу. Да и вообще всю нашу компанию. Нэлку, например, за неприступность. Кукуша за славу. Антошу за гений. Глада за то, что уехал. Всех, кроме Яна, должно быть. Яна-то как раз особенной ненавистью. А теперь и тебя за прежнюю дружбу.
Теперь меня лишат всех полномочий. Ну и черт с ними, с полными мочиями. Никогда не буду предавать своих, да и вообще классных ребят; таков наш кодекс с Юстасом. Раскрыли мои хорвато-литовско-троцкистские корни и теперь хотят этим шантажировать! Идиоты! Почему, по своей мерке они не идиоты. Это ты по их мерке идиот. Выебывается, мол, в гордого поэта играет, отказывается от квартиры на улице Горького! В общем, я люблю тебя, моя идиотина!
Квартиру они все-таки получили, и в назначенный срок. Шестикомнатную квартиру на Горького в таком очень солидном доме с закругляющимся фасадом; ну, все знают этот дом по соседству с Телеграфом. В Союзе писателей ему объяснили, что такая квадратурно-кубатурная квартира ему нужна для престижа. Вам придется, Роберт, принимать иностранных представителей. Да к тому же ведь и маловозрастная дочка теперь появилась, Марина-Былина Робертовна Эр; вот уж имечко, днем с огнем не придумаешь! Состоялось новоселье, на котором среди гостей присутствовал и Юрий Онуфриевич-говнюк, фамилию даже произносить не хочется.
Ваксона там не было по уважительной причине. С ним произошло нечто чуть ли не обвальное. После встречи на борту «Яна Собесского» они с Ралиссой были счастливы и неразлучны еще едва ли не полтора года. Потом она вдруг снова исчезла. Куда понесло теперь этого тщеславного Джона Аксельбанта? Неужели опять в Великую Британию? К своему послу-ослу? Что за таинственная страсть к предательству ее терзает? Ведь даже и объяснительной записки не оставила! Он стал все швырять, что под руку попадется. Где же оно, «шитье с оставленной иголкой»? Не было никакого шитья, а иголки, впившись в маленький пуфик, превратили его в модель дикобраза. И ничего похожего на «всю ее», если не считать на тряпье запаха ее подмышек.
Он запил и вскоре превратил их съемную и любовно убранную Раликом квартиру на Плющихе в сущий алкогольный бедлам. «Чувиху», как не раз он называл «послиху», вычеркнул в очередной раз из памяти. Не хватило соображения открыть ее парфюмерный ящик в комоде. Кабы он открыл оный ящичек, сразу бы бросилась в глаза открытка с изображением чудовищных ракет, с розовощеким ракетчиком и с надписью «На страже мира!», выпущенная почтовым ведомством ко дню Советской армии, и тогда бы он смог прочесть послание, начертанное ее нервной рукой: Му Love, I’m splitting for а while. We have some serious problems with Veronikochka. Please, do not suspect me in any wrong doing. Be well and prudent. I’ll be back soon. Your Ralik. He сообразил, не открыл, не заметил, не прочел. Грязнуха-ревность, подпрыгивая с утра до ночи, как жаба, превращала его в безумца.
Однажды ночью, впрочем, открыл, когда выпиты были все отменные скочи и коньяки, а также ящик химического «Солнцедара», взялся за парфюмерию. Сейчас выдую все ее «Шанели № 5» и «Баленсиаги». Вышвырнул какую-то дурацкую открытку. Она спланировала по спальне и улеглась в пустой корзине для грязного белья. Стал открывать флакончики и дуть. С организмом происходило что-то чудовищное: то ли уползти куда-то хотел, то ли воспрять до вершин. Постоянно появлялась Ралисса Кочевая-Аксельбант — то из шкафа выйдет в бикини, то из ванной в норковой шубке, то из телевизора шагнет предельно обнаженной ногою, а то и из манускрипта материализуется вместе с куском предательски прекрасной летней ночи. Он выпивает последний флакон и мечется по квартире, умоляя не исчезать, матерясь, протягивает руки, но она исчезает одна за другой и все пространство вокруг и внутри заполняется сонмищем плавающих белых пятен.
Он понимал, что дьявольски болен, что у него пожар сердца или, вернее, «делириум тременс» и что если сейчас не придет кто-нибудь из живых, ему конец. Бухнулся на тахту, начал набирать телефоны, которые почему-то отчетливо помнил. Молил о помощи, вопил, что дверь открыта; и потерял сознание.