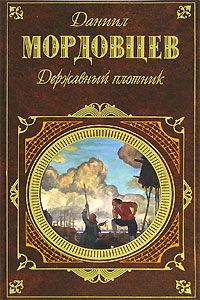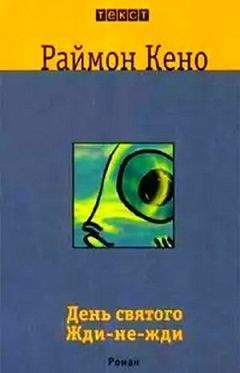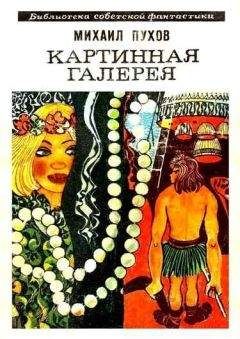Павел Крусанов. “Главная прелесть моей жизни — в том, что я говорю на русском языке…” Беседу вел Платон Беседин. — “ Thankyou.ru ”, 2012, 12 ноября < http://blog.thankyou.ru >.
“По преимуществу именно искусство, а следовательно, и литература, своей совокупной силой, своим художественным языком создает тот культурный миф, с которым мы все себя отождествляем, если, конечно, отождествляем. Именно он позволяет нам чувствовать свою исключительность, свою неравность остальному миру. А без того не быть счастью”.
“Идет состязание грез, война соблазнов — ни горячая, ни холодная, ни на жизнь, ни на смерть — война на очарование. Быть зачарованным чужим культурным мифом в исторической перспективе — хуже смерти. Это добровольное рабство, рабство без принуждения. Когда чужой язык, чужая культура и чужой образ жизни начинают казаться более соблазнительными, чем твои собственные, — это и есть поглощение”.
“Институт литературного старчества, а именно об этом речь, никуда не делся. На нашей памяти были Лихачев и Солженицын. Сейчас, вроде бы, такого всероссийского старца нет, вакансия открыта, но есть региональные: в Иркутске — Валентин Распутин, в Петербурге — Даниил Гранин. Прилепин станет литературным старцем в Нижнем, если не сбежит в Москву”.
“Я желаю своей стране блеска и величия, это нормальное и даже естественное желание гражданина. Это признак бодрости, а не сонливой старости, для которой подняться на третий этаж — проблема, для которой естественна идея маленького национального государства, похожего на дачу с огородом, и все на шести сотках. Если естественное желание бодрого гражданина вызывает вопросы — общество нездорово”.
“Жуки — чудесные существа. Не путать с тараканами и клопами. По разнообразию видов жуки — самый крупный отряд на земле. Что свидетельствует о симпатии к ним самого Создателя. Они покорили все стихии, кроме огня: землю, подземелье, воздух, воду… Им подарены все цвета радуги и все их сочетания. Словом, говорить о них можно долго, но я не буду забалтывать тему — про них надо написать, и я непременно напишу”.
Вячеслав Курицын. Сов возить в Афины. О трехтомнике Анри Волохонского. — “Однако”, 2012, № 35, на сайте журнала — 27 ноября < http://www.odnako.org >.
“Волохонский работал над „Финнеганом” пять лет, переложил около сорока страниц из шестисот с лишним. Не имея инструмента оценить качество этой работы, мы, однако, в состоянии оценить количество: для такого подвига нужно как минимум много свободного времени. Для чтения — тоже. Выпуская трехтомник Волохонского именно сейчас, издатели, разумеется, никак не имели в виду отечественной политической ситуации, но интерпретатору-то ничто не мешает о ней вспомнить. Перед лицом нового таинственного заморозка многие пытливые умы озабочены перепозиционированием: кто об эмиграции думает, кто о протесте, кто готов подержаться за кремлевскую дубину (если, конечно, еще разрешат). А можно отнестись проще (оно же — по старинке, оно же — в русле благородных традиций): может быть, нам будет теперь выделено время для чтения очень толстых книг?”
“Левая идея — идея антисобственности”. Дмитрий Губин беседует с Александром Ивановым. — “Огонек”, 2012, № 44, 5 ноября < http://www.kommersant.ru/ogoniok >.
Говорит Александр Иванов: “Левая идея — это повышенная чувствительность к социальной несправедливости. Будь ты тысячу раз правым, но если вдруг у тебя возникает сочувствие к обездоленным... Это потом ты будешь объяснять, что бедные сами виноваты, что они не хотят работать... Но если у тебя возникает неконтролируемое сочувствие — считай, что ты попал в левый спектр. Вот эта пушкинская милость к падшим, это нежелание действовать в логике успеха... Если у тебя есть хотя бы крошечный шанс не влипнуть в эту логику,— ты на левой территории”.
Вадим Левенталь. Быть Виктором Пелевиным. — “Известия”, 2012, на сайте газеты — 22 ноября.
“В русской прозе, а особенно в XX веке нет магистрального течения. Но наряду с линиями (условно, крайне условно) Горький — Фадеев — Трифонов или, например, Кузмин — Мандельштам — Гинзбург есть и такая: Л. Толстой — Набоков — Пелевин”.
См. также: Ирина Роднянская, “Сомелье Пелевин. И соглядатаи”. — “Новый мир”, 2012, № 10.
Николай Любимов: У меня есть Господь, молитвы отца Георгия и великая русская литература. Беседу вел Леонид Виноградов. — “Православие и мир”, 2012, 20 ноября < http://www.pravmir.ru >.
20 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения переводчика Николая Любимова (1912 — 1992). Говорит Борис Любимов: “Возможно, в школе я стал бы ортодоксальным марксистом, но незадолго до смерти Сталина моя сестра (она была старше меня на 5 лет, сейчас ее, к сожалению, уже нет в живых) увидела во сне Сталина в гробу, пришла и шепотом сказала об этом отцу. А я случайно услышал ее слова и ответ отца: „Дай-то Бог”. У меня перехватило дыхание от удивления. Мне было пять лет, и никто, естественно, со мной до того времени о политике не говорил, только о любви, добре, красоте и о Боге. Когда мы через несколько дней гуляли вдвоем с отцом, я у него спросил, что значат его слова. Он коротко и доступно объяснил мне политическую ситуацию, и после этого лет до десяти я был, пожалуй, самым убежденным монархистом среди всех детей такого возраста, в том числе и из семей белоэмигрантов. Еще через пару лет отец пересказал мне содержание своей любимой пьесы — „Дни Турбиных” — и практически сыграл весь мхатовский спектакль. Вскоре я увидел этот спектакль и сразу после него придумал себе игру. Если многие мои сверстники играли в Чапаева, который не погибал, а выплывал, то моя игра заключалась в том, что Алексей Турбин не погиб и мы с ним вместе идем освобождать Москву от большевиков. С семи до девяти лет я постоянно так играл. Естественно, ни с соседями, ни с одноклассниками это не обсуждалось, как и позже, когда мы переехали в отдельную квартиру на „Аэропорте”. С одним другом мы сходились в отношении к существующей власти, но о революции не говорили. До поры до времени в отношении к Ленину и большевикам я был одинок, как и в своей церковности”.
“Он показал мне пример семейной любви, хотя в любой семье бывают трудности, трещины (как и в церковной жизни). Когда я уходил в армию, он написал мне письмо, которое поддерживало меня на протяжении всей службы. А за два месяца до смерти, предчувствуя скорый уход, сказал мне: „Я знаю, тебе будет тяжело, когда я умру, но помни, что ты сделал для меня все”. Это, конечно, не так, и с годами чувство вины по отношению к родителям чувствуешь все больше”.
Лягушка в молоке. Поэт Бахыт Кенжеев о колосящемся гладиолусе, кока-коле с сахарином и обители чистых нег. Беседу вел Борис Кутенков. — “НГ Ex libris”, 2012, 22 ноября < http://exlibris.ng.ru >.
Говорит Бахыт Кенжеев: “Прочел где-то до половины несколько романов Леонова. Я решил глубоко с ним ознакомиться, взял большую биографию, написанную Прилепиным недавно, прочитал сначала ее, потом какие-то публикации о Леонове. Важную роль при этом играл Алексей Цветков, который сказал мне, что это один из лучших четырех-пяти писателей двадцатых годов двадцатого века. Книга Прилепина поддерживает эту идею. Она говорит, что это незаслуженно забытый писатель. Правда, к прилепинской книжке у меня свои претензии: он там все время спорит с каким-то ужасно оглупленным либеральным противником и говорит: вот какая у Леонова была трудная жизнь, а вы вот его забыли, он был обласкан Советской властью. Какая чушь! Я вот типичный представитель либеральной интеллигенции, а поэт Исаковский, как и Шолохов, был сталинским сатрапом, мы это знаем. Что, это мешает нам говорить о том, что первый был замечательным поэтом, а второй — превосходным прозаиком? <...> Так что Захар отчасти спорит с ветряными мельницами”.
“А почему я перестал читать [Леонова] на середине — вот вопрос. А все дело в том, что любви у Леонова мало — он не любит своих героев, он любит сочинять. При этом у него нет настоящей боли за них, настоящего сочувствия. Как приятно, что одновременно с этим я читал ёВойну и мир”: Толстой может ненавидеть своих героев, но он, как принято выражаться, позиционирует себя по отношению к ним. Это не повествование ради того, чтобы просто повеселиться со словами: если он описывает руки Анны Карениной, то видно, как он влюблен в эти руки. И вот этого я не обнаружил у Леонова. Я думаю, что это какой-то нравственный дефект, который не позволяет мне считать его по-настоящему великим писателем. Хотя он большой писатель, конечно”.