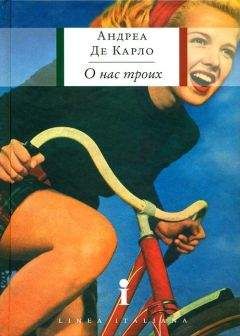Был август, и было, как и каждый год, повальное бегство из города, как будто в нем разразилась эпидемия. Моника, моя девушка, оставила письмо на кухонном столе, в котором, поблагодарив за то, что я так и не позвонил ей из Лондона, сообщала, что уезжает с двумя подругами в туристический поселок на остров Форментера. Я расстроился, но не удивился: это показалось мне таким же естественным, как изнуряющая жара, придавливающая меня к земле, или назойливые комары, которые каждый вечер наводняли квартиру. Как и сообщение от Мизии на автоответчике, оставленное именно в те десять минут, когда я от отчаяния вышел на улицу размять ноги; она говорила, что планы изменились и во Флоренцию она не приедет, передавала мне приветы и поцелуи (теплота в ее голосе, ощущение непреодолимого расстояния между нами у меня в душе).
Дети отдыхали в Лигурии вместе с моей бывшей женой и ее другом, адвокатом; когда я позвонил и сказал, что через неделю заберу их и мы тоже поедем куда-нибудь отдыхать, они оба разревелись с самым искренним отчаянием. Я позвонил еще пару раз, но с тем же результатом, и, наконец, Паола сказала, что будет лучше, если в этом году дети останутся с ней, им здесь хорошо и очень весело; я согласился. Мама отдыхала со своим мужем на Сардинии, бабушка умерла, все соседи разъехались; я погрузился в пустоту покинутого города, словно впал в кому. Я ничего не делал, питался шоколадными вафлями, которые держал в холодильнике, и холодным чаем, лежал на полу в гостиной перед телевизором, включенным круглосуточно, и размеренно дышал, а тяжело больная страна дефилировала передо мной со всей своей музыкой, лицами и голосами.
В сентябре мне стало только еще хуже. Я вернулся к живописи, чтобы хоть как-то хватало на алименты Паоле и собственное существование, но мои картины вызывали у меня отвращение, как и мысль о том, что я участвую в торговле искусством. Моника вернулась, от восторженных рассказов о Форментере мне стало до того тошно, что пропало всякое желание ее видеть, она пыталась перезвонить, но я каждый раз бросал трубку. Милан казался мне на редкость уродливым и враждебным, при виде знакомых улиц и зданий, серых и хмурых, на меня наваливалась невыносимая тоска. Я выходил из дома только в случае крайней необходимости, но на каждом шагу натыкался на какую-нибудь мелочь, которая пробуждала воспоминания о тоскливом детстве, пустой юности, кошмарных годах одиночества и неудовлетворенности, закончившихся только с появлением в моей жизни Марко и Мизии, вместе с которыми я погрузился в мир иллюзий. Иногда я останавливался на полпути и возвращался домой; иногда шел куда глаза глядят, пока не чувствовал, что вот-вот растворюсь в грязном асфальте или в покрытой черной пылью автомобильной дверце.
Мизия позвонила из Флоренции, но не успел я толком обрадоваться, как она сказала, что уезжает в Амстердам — реставрировать одну частную коллекцию. Она уже съездила туда и посмотрела картины, нашла квартиру и школу для детей; она радовалась, что ее ждет такая интересная работа, ей нравился город и хотелось перемен. И еще она рассталась с американцем, их роман быстро сошел на нет, стоило им пожить вместе в Греции. Сказала, что теперь она в таком возрасте, когда ей не хочется меняться, чтобы соответствовать желаниям мужчины; она уже была актрисой для Марко, образцовой домохозяйкой для первого мужа, пастушкой из необуколики для своего козопаса, просвещенной помещицей для Томаса; сейчас она хочет одного — быть самой собой. Она рассказала, как Томас давил на нее, шантажировал, угрожал забрать маленького Макса, и теперь ей совершенно непонятно, как она могла так долго прожить с ним в Аргентине, как столько лет играла совершенно не свою роль, и даже благодарность за спасение от наркотиков этого не объясняет. И как это странно, что только мое появление вырвало ее из этой тюрьмы, и каждый раз, думая об этом, она благодарила судьбу за такого друга, как я. Она написала отцу, матери, сестре и брату: пусть они считают, что ее просто нет в живых, пусть оставят ее в покое и, наконец, займутся своими делами. Написать такое письмо было нелегко, но зато сейчас она чувствует себя совершенно свободной, чего с ней не случалось с четырех лет. И как это трудно — избавиться от того, что связывает тебя по рукам и ногам, но рано или поздно нужно хотя бы попытаться, иначе ты не сделаешь этого никогда. И я обязательно должен приехать к ней в Амстердам: у нее есть комната, где я смогу жить сколько захочется, и там столько всего можно посмотреть, и Ливио с малюткой Максом будут очень рады.
Я ответил, что приеду, не сказав ни слова о Марко, потому что мне не хотелось ее огорчать. Когда я положил трубку, лучше мне не стало: ее оживленный, веселый, независимый, уверенный голос лишний раз напомнил мне, какой пустой, тусклой и однообразной жизнью я живу.
Каждые две недели я заезжал за детьми и забирал их на выходные, но меня не хватало даже на то, чтобы сводить их в кино или на детский спектакль. Все время, отведенное нам, чтобы побыть вместе, они проводили перед телевизором; иногда я пристраивался к ним на диван, хотя они не проявляли особенного дружелюбия, и вместе с ними погружался в состояние транса, глядя на танцовщиц в крошечных стрингах, на дикторов, похожих на марионеток, на женщин-ведущих, чьи носы, губы, скулы безжалостно разрезали, опустошили, заполнили, сшили, на старых политиканов, вырядившихся политиками новой волны, которые в каждой передаче устраивали балаган, кривлялись и заигрывали со зрителями, жонглировали словами, напрочь лишенными цели и смысла, — им бы только мелькать в телевизоре.
Когда по воскресеньям я привозил детей обратно и видел сад, дом, яркий свет, мебель из светлого дерева, то иногда страшно хотелось броситься перед Паолой на колени и попросить взять меня обратно, а я бы ходил за покупками и приносил в дом все заработанное до последней лиры. Но она вела себя слишком враждебно: я передавал ей детей с рук на руки, она, встретив их у ворот, сухо бросала «до встречи», после чего тут же закрывала ворота. На своей французской машине со слабым движком и севшими амортизаторами я пускался в обратный путь к ядовитой впадине Милана, и мне казалось, что я скатываюсь по склону из пустых иллюзий, утрамбованных катком действительности.
В середине октября я отвез несколько картин своей новой галеристке и по дороге изо всех сил старался не замечать ничего вокруг — лица, пейзаж, детали. Галеристка разглядывала мои картины, которые я выставил в ряд у стены, то и дело посматривая на меня, как на безнадежного больного; наконец, она спросила, почему я рисовал в такой параноидальной манере. Я сказал, что, возможно, так было всегда; она заметила, что сейчас дело совсем плохо, с полотен исчезли все яркие и жизнерадостные цвета.
— Нет больше красного, желтого, синего, зеленого, голубого. Нет света, нет движения, почти нет жизни. Если будешь продолжать в том же духе, может, мы и найдем какого-нибудь влиятельного критика, который объявит это новым словом в искусстве. Главное, чтобы ты не застрелился на днях. Продажи от этого пойдут лучше, но по-человечески мне будет жаль.
Ее беспокоило что-то еще, и она ходила взад-вперед в сером брючном костюме от ее друга-стилиста, упершись взглядом в пол; я спросил, в чем дело. Поколебавшись секунду, она сказала:
— Ливио, может, ты еще не понял, что быть художником — это не только писать картины, будь они хорошими или плохими.
— Что же еще? — спросил я; по левому виску стекал пот, мне не хватало воздуха.
— Еще много всего, — сказала галеристка. — Надо общаться с людьми. Хоть немного работать над имиджем: ты должен вызывать интерес и иметь товарную привлекательность. Ходить и на чужие выставки, вращаться в этих кругах. Появляться на людях, беседовать с коллегами и журналистами. Звонить время от времени кому-нибудь из известных критиков и просить совета. Приглашать его в свою студию, дарить иногда картины. Заставь себя хотя бы быть подружелюбнее с асессором по культуре, когда сталкиваешься с ним у меня в галерее. Поддерживай связь с редакциями газет. Если у тебя есть знакомства в муниципалитете, в департаменте выставок, то, само собой, это очень кстати. Знакомства с людьми, которые могут что-нибудь сделать на телевидении, даже на региональном, тоже очень кстати.
— Я художник, а не сутенер и не проститутка, — сказал я.
— Но свои картины ты продать хочешь, — сказала галеристка. — Иначе ты бы здесь сейчас не стоял. А раз ты их продаешь, то не помешало бы, чтобы их рыночная стоимость росла от выставки к выставке, из года в год, а не оставалась бы неизменной, как цена на хлеб.
— Я уже не уверен, что хочу их продавать. Я уже не уверен, что вообще хочу что-то делать в этой стране.
— Мой дорогой Ливио, везде будет то же самое. Чтобы вести себя как дикарь и нелюдим, нужны средства. Если их нет, то, поверь мне, участь твоя незавидна. Очереди из желающих понять тебя, мой дорогой, пока не видно.